Избранное - [89]
Я зашел на кухню к старой экономке врача, чтобы закончить там свой туалет. По примеру доктора и на правах гостя и старого знакомого, я не хотел, чтобы она прислуживала мне в комнате. Экономка, маленькая полная старушка, уже варила кофе, в кухне приятно пахло и было тепло. Мы поздоровались, и я, стоя у плиты, потягивался, по моему сонному еще телу, словно ток, разливалось тепло, мышцы становились упругими. Вдруг над кроватью экономки задребезжал электрический звонок.
— И кому это неймется? — Она, ворча, поднялась и, чтобы не позвонили еще раз и звон не донесся до комнаты, поспешила открыть двери в прихожей. Она бы, конечно, отправила восвояси раннего пациента (так она называла всех, кто сюда приходил, и больных и здоровых), но опасаясь, как бы не убежало что на плите, заторопилась обратно, а за ней робко, на цыпочках, неуверенно шел тот самый молочник, которого я только что видел из окна. Стеклянные двери за экономкой остались открытыми, и парень остановился в нерешительности — пройти ему или остаться в прихожей. Я был в одной рубашке, с улицы дуло, дело было в феврале, поэтому я молча поманил его рукой, он понял, быстро засеменил и на цыпочках, у меня под рукой, проскользнул в кухню. Я закрыл двери.
— Что там с твоей матерью стряслось, чего ты к семи часам прибежал? — Она взглянула на будильник, убедившись, что сейчас действительно семь, и занялась кастрюлями на плите.
Молочник шумно вдохнул ароматный воздух и прерывистым голосом ответил:
— Задышка у них, — будто сам задыхался. Видимо, от робости он не мог перевести дыхание.
Кухня выходила на лестницу, ведущую на второй этаж, и здесь стоял полумрак. Я подошел к окну, чтобы лучше рассмотреть парня. Снимая шапку, он весь разлохматился. Синюю рукавицу вместе с шапкой он прижимал одной рукой к груди, другой гладил шапку, будто кошку. Он стоял на месте, как раз за дверью, но, боясь помешать прислуге, при ее приближении переступал с ноги на ногу. Я присмотрелся к посетителю: детская фигурка, большая голова, посаженная на тонкой, как спичка, шейке, старое лицо. Под плоским, словно пуговица, носом пушились реденькие желтые усики, из-под которых выступали зубы, создавая впечатление, будто молочник все время усмехается, рот и заостренный подбородок тонкие, вытянутые, как у птенца. Сермяга с чужого плеча и здоровенные мужские сапоги, покрытые сухой и свежей грязью. Глаза я не мог рассмотреть, они были какие-то блеклые, зеленоватые, маленькие и глубоко посаженные. Шапка, сермяга, сапоги были на большого мужика, и он терялся в этой одежде, тощий парнишка лет четырнадцати — пятнадцати.
— Ты откуда? — начал я разговор.
— Из Заводья, из замка, — с готовностью ответил молочник, как бы помогая мне вспомнить, не знаю ли я его, ведь его самого или уж его повозку и лошадь знает весь город. — А это вы доктор? — в свою очередь спросил он меня, делая ударение на вы, и взглянул на меня. Я понял, что он не знает доктора и не уверен, придет ли тот к его матери.
Экономка подала мне кофе.
— Подожди, — сказала она парню и пошла в комнату.
— Кто же тебя послал?
— Да я уж сам подумал, может, они пришли бы, — сбивчиво проговорил молочник. — Мать-то, того и гляди, совсем задохнется. Уже третий год пошел, как у ней задышка… С осени слегли и все говорят, что смерти ждут… Так уж пусть и не думают, что я даже врача не позвал, раз отец не хочет… Двух кроликов вот продал… заплачу как полагается, если бы пан доктор согласились прийти, да хоть и довез бы, дорога-то плохая. Тут у меня повозка, — он махнул рукой, показывая назад, за спину, где на улице стояла его повозка.
— А сколько тебе лет?
— Двадцатый пошел.
И правда, подумалось мне, такой простак на первый взгляд, а говорит толково. Видать, и вправду ему двадцать будет.
— Да ты уж совсем жених, — сказал я, добавив про себя: «А выглядит мальчикам». — В школу-то ты ходил, читать умеешь?
— В деревне-то пока жили, ходил, а после, как мы в замок нанялись, там уж не ходил. Но вот «Псалтырь» могу читать. Вот и нынче, когда матери плохо, заснуть не могут, я и читаю по ночам разные песни, «Град могучий», к примеру… всю без книжки знаю. И вот эту знаю: «Время радости…» и «Сила божья, чудная…» — два стиха. И еще знаю…
— А кто тебя научил?
— В школе, да и мать умеет.
— А отец? Отец у тебя есть?
— Есть, да он с нами не живет.
— А где же? — полюбопытствовал я.
— Уже целую зиму у этой сучки…
— У кого?
— У скотницы. К нам и есть не приходит.
— Почему?
— Мать-то лежат, а мое варево он, мол, жрать не будет, мать-то съедят, да и я тоже. Да еще, мол, некому ему постирать да пошить. Я-то сам себе…
— Ну, а мать-то отец иногда навещает?
— Заходит… Да он все к скотнице перетаскал, с ней и живет.
— А мать что на это? Скотнице-то?
— Они и не видятся, да мать рада, что та за отцом присматривает.
— А к отцу мать не ходила?..
— Да вот осенью было пошла, звала его… Он ей сказал: «Помирай или оживи, тогда вернусь к тебе». А сейчас, как напьется, все к матери приходит плакать… да потом как разойдется, так бы и добил ее прямо в постели, не вступись я.
— А чего он злится?
— Вроде, мол, мать виновата, что он так опустился…

«— Итак, — сказал полковой капеллан, — все было сделано правильно, вполне правильно, и я очень доволен Руттон Сингом и Аттар Сингом. Они пожали плоды своих жизней. Капеллан сложил руки и уселся на веранде. Жаркий день окончился, среди бараков тянуло приятным запахом кушанья, полуодетые люди расхаживали взад и вперёд, держа в руках плетёные подносы и кружки с водой. Полк находился дома и отдыхал в своих казармах, в своей собственной области…».
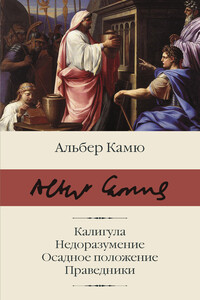
Трагедия одиночества на вершине власти – «Калигула». Трагедия абсолютного взаимного непонимания – «Недоразумение». Трагедия юношеского максимализма, ставшего основой для анархического террора, – «Праведники». И сложная, изысканная и эффектная трагикомедия «Осадное положение» о приходе чумы в средневековый испанский город. Две пьесы из четырех, вошедших в этот сборник, относятся к наиболее популярным драматическим произведениям Альбера Камю, буквально не сходящим с мировых сцен. Две другие, напротив, известны только преданным читателям и исследователям его творчества.

В книгу вошли стихотворения английских поэтов эпохи королевы Виктории (XIX век). Всего 57 поэтов, разных по стилю, школам, мировоззрению, таланту и, наконец, по их значению в истории английской литературы. Их творчество представляет собой непрерывный процесс развития английской поэзии, начиная с эпохи Возрождения, и особенно заметный в исключительно важной для всех поэтических душ теме – теме любви. В этой книге читатель встретит и знакомые имена: Уильям Блейк, Джордж Байрон, Перси Биши Шелли, Уильям Вордсворт, Джон Китс, Роберт Браунинг, Альфред Теннисон, Алджернон Чарльз Суинбёрн, Данте Габриэль Россетти, Редьярд Киплинг, Оскар Уайльд, а также поэтов малознакомых или незнакомых совсем.

«Избранное» классика венгерской литературы Дежё Костолани (1885—1936) составляют произведения о жизни «маленьких людей», на судьбах которых сказался кризис венгерского общества межвоенного периода.
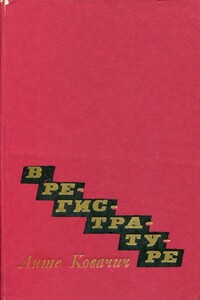
Роман крупного хорватского реалиста Анте Ковачича (1854—1889) «В регистратуре» — один из лучших хорватских романов XIX века — изображает судьбу крестьянина, в детстве попавшего в город и ставшего жертвой буржуазных порядков, пришедших на смену деревенской патриархальности.
