Избранное - [10]
Потом он в чем-то проштрафился и очутился в селе на Дунае. Правда, чина его не лишили. Однако попоек он уже никогда не устраивал. А может, слухи о них были всего лить слухами?
Костайке направился к Анастасии, хотя она и не звала его.
— Чего тебе? — спросила Анастасия.
— Мне ничего. А тебе я, видать, нужен.
— Мне?!
— Да, а то с чего бы ты вытаращила глаза, увидев меня, а? Ты посмотрела на меня, когда я заводил граммофон, и мне показалось, что ты ждешь меня, хочешь что-то спросить…
— Да я и впрямь про тебя думала, поди, лгут люди про твои ночные кутежи да попойки…
— Нет, — рассмеялся Костайке, — про другое ты думала, про это ты уже спрашивала… Может, ты хотела сказать, что я прав насчет Стойковича… Чудного в том нет, барышня, что я прав. Я хорошо, даже слишком хорошо знаю людей, знаю, чего от них ждать. Ты думаешь, Стойкович умен, прикинулся спящим, потому что не желает ссориться с этими, боится, как бы они не заметили, что ты вьюном вилась вокруг него, а может, решила, будто не доверяет он тебе, сама ты ему говорила, я слышал. Ерунда! Стойкович умен, тут ты права, но он вовсе не прикидывается, что спит, он и вправду спит.
— Я не слепая, сама вижу, что спит.
— Ладно, спать-то спит, но не только в спанье дело. Важно узнать: почему спит Стойкович? Потому что умен и засыпает как убитый, когда ему понадобится? Может, хочет выйти сухим из воды? Отвести подозрение? Ты скажешь: «Он умен». Я скажу: «Нет». Да перестань ты глядеть на этих, никто нас не подслушивает, им и не слышно ничего, граммофон орет вовсю… И не интересно им вовсе, про что мы тут калякаем. Уж мне-то поверь. Эти думают, все будет по-ихнему.
— Небось эти не сомневаются: никто не посмеет пойти им наперекор!
— Сказать откровенно?
— Если можешь.
— Слушай, барышня, я в благоглупости не верю. Ясно, про что речь-то? Внятно говорю?.. В трезвом, расчетливом мире мы живем, и нет тут места ерундистике. Этим поглумиться охота над мертвецами или над живыми, над нами да над сербами, да так, чтобы страху нагнать побольше да трепету. Но у сербов делов по горло. Да и какой олух царя небесного рисковать станет? Кто по своей воле в волчью стаю полезет? И мы не лыком шиты, не дурнее этих, что надираются сейчас в корчме, граммофончик слушают, не дозволим обвести себя вокруг пальца, поняла? Козни им расстроим. Повода не дадим расправиться с нами, отомстить. Вот увидишь, ничего у них не выйдет, и им волей-неволей придется труп серба в Дунай кинуть. Словом, подержат его там, пока игра им самим не надоест, а потом в реку бросят, и все пойдет по-старому. Эти-то наперед знают, что будет, но видать, со скуки развлечься вздумали. Разве это первый убитый серб? Нет. Убитые румыны тоже были, но, по правде говоря, я, барышня, умолчал про них, не сказал, что наши, выдал их за «сербских партизан». Чтобы эти не перевернули все вверх тормашками. Началась бы кутерьма, допросы. К чему? Убитые убиты. Мертвые с мертвыми, живые с живыми. Я реалист, барышня. Может, у молодых по-другому… Время нынче, ну как бы получше выразиться, эдакое смутное. Я тебя понимаю. Потому позволил тебе, как говорится, подурить всласть. Но, ей-богу, барышня, теперь довольно. Зачем беду на себя накликать? Смотри, как бы не пришлось жалеть опосля. Стойкович вон храповицкого задает. Ты думаешь, он умен? Нет, он не просто умен, а дьявольски хитер. По совести говоря, его я боялся больше, чем тебя. Потому я и пришел сюда, пробрался садами. Я следил за тобой со школьного двора, из-за нужника, и за ним следил. Стойкович — бесовское отродье. Эти, которые бражничают у него в кабачке, тоже знают, что он чертовски изворотлив. Было время, корчмарь с сербскими партизанами снюхался, я ведь тебе говорил, Что он серб, потом он раскусил, за что у них борьба, цель какая, шибко ему это не понравилось. Он не против фашизма. Вот когда сербская половина его души стала отмирать, пробудилась та, вторая половина, которая спит сейчас, ублажается в тени шелковицы. Бросил он сербам помогать. Сдается мне, он, Стойкович, начал ихние тропы и своим и этим, здешним, показывать.
— Словом, ты хочешь сказать, что он — свинья.
— Нет, нет. Поступи он и впрямь так, было б умно. Знать, докумекал, на чьей стороне перевес, и сумел затаиться. Не то его давно бы скрутили не те, так эти. Но я не говорю, что он так поступил. Повторяю только: он чертовски хитер. Захоти он — ему все под силу. Как-то он прошелся по проволоке, вот те крест, не вру, вон по той, что от сарая к ореховому дереву протянута, его благоверная на ней постиранное сушит. Побился об заклад со мной и с доктором, что пройдется по проволоке, — и выиграл. Штиблеты в руке держал, а сам босой шел, рубахи и прочее, развешанное для просушки, все испохабил к чертовой бабушке. Зато в выигрыше остался; правда, знал он, оскользнется — невысоко падать, ростом-то он с каланчу… И еще прикинул: проиграет пари — в другом выиграет, в деревне ведь никто на такое не отваживался. Люди валом к нему повалят, хозяин, мол, небоязливый, до шуток охотливый. А ведь под хмельком шел, мог и упасть, ясно, барышня? И на ухо туговат он, вроде как на такого обидишься, если недопоймет чего, недослышит? Не след обижаться, а глухота-то у него неспроста: не слышит он, умеет не слышать, когда не хочет. Ишь, спит мертвецким сном, храпит во всю мочь, но я уверен: что-то в нем не дремлет, что-то настороже. Можешь поднять меня на смех, но Стойкович один в деревне землетрясение учуял. Ночью пошел в кабачок, поснимал бутылки с полок, на пол составил. Потом вернулся к своим домашним, сказал: «Будет землетрясение». — И завалился дрыхнуть дальше. Летом, в засуху особливо, сон легко его смаривает. Отоспится он и бегом за бабой, на чердак, на сеновал ее тащит — не серчай, барышня, теперь и тебе про такое говорить можно, не маленькая ведь, — а не случись ее дома, к соседкам бежит… Баба нрав его распознала, так в летнюю жару ни-ни из дому. Обжора он, ест помногу, вертит делами да людьми непомалу, головаст, умен, хотя и глупости наверняка делает. Но и глупит он с умом: у одних — одни глупости, у других — другие. Стойкович глупит, чтобы ум прикрыть. Этим и берет, бестия; силен, врасплох его не застанешь, да лучше и не заставать, а то греха не оберешься. Серба, за которым гнались, видать, он знал. А не знал, так серб про него знал. Подмоги, приюта, может, у корчмаря просил. Ведь других сербов корчмарь прятал. А этого укрыть не удалось, вкруговую болтали, шушукались, что сербов, мол, привечает. Улик, правда, не было. А может, и убитый хоронился у Стойковича: акация с гнездом аистов в его ведь саду растет. Поймай они серба живьем у Стойковича, разве не влип бы он? Влип бы. Но он сумел выйти сухим из воды.
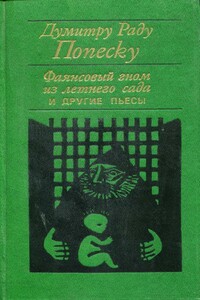
Думитру Раду Попеску — поэт, прозаик, драматург — один из самых интересных и значительных писателей современной Румынии. Его проза неоднократно издавалась на русском языке (повесть «Скорбно Анастасия шла», роман «Королевская охота» и др.). В этом сборнике представлена многожанровая драматургия Попеску: драматическая поэма «Фаянсовый гном из летнего сада», социальная драма «Эти грустные ангелы», трагикомедия «Хория», памфлет «Цезарь — шут пиратов».
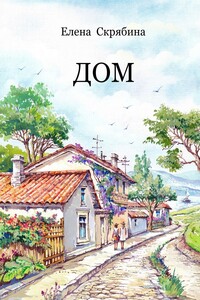
Автор много лет исследовала судьбы и творчество крымских поэтов первой половины ХХ века. Отдельный пласт — это очерки о крымском периоде жизни Марины Цветаевой. Рассказы Е. Скрябиной во многом биографичны, посвящены крымским путешествиям и встречам. Первая книга автора «Дорогами Киммерии» вышла в 2001 году в Феодосии (Издательский дом «Коктебель») и включала в себя ранние рассказы, очерки о крымских писателях и ученых. Иллюстрировали сборник петербургские художники Оксана Хейлик и Сергей Ломако.

В каждом произведении цикла — история катарсиса и любви. Вы найдёте ответы на вопросы о смысле жизни, секретах счастья, гармонии в отношениях между мужчиной и женщиной. Умение героев быть выше конфликтов, приобретать позитивный опыт, решая сложные задачи судьбы, — альтернатива насилию на страницах современной прозы. Причём читателю даётся возможность из поглотителя сюжетов стать соучастником перемен к лучшему: «Начни менять мир с самого себя!». Это первая книга в концепции оптимализма.

Перед вами книга человека, которому есть что сказать. Она написана моряком, потому — о возвращении. Мужчиной, потому — о женщинах. Современником — о людях, среди людей. Человеком, знающим цену каждому часу, прожитому на земле и на море. Значит — вдвойне. Он обладает талантом писать достоверно и зримо, просто и трогательно. Поэтому читатель становится участником событий. Перо автора заряжает энергией, хочется понять и искать тот исток, который питает человеческую душу.

Когда в Южной Дакоте происходит кровавая резня индейских племен, трехлетняя Эмили остается без матери. Путешествующий английский фотограф забирает сиротку с собой, чтобы воспитывать ее в своем особняке в Йоркшире. Девочка растет, ходит в школу, учится читать. Вся деревня полнится слухами и вопросами: откуда на самом деле взялась Эмили и какого она происхождения? Фотограф вынужден идти на уловки и дарит уже выросшей девушке неожиданный подарок — велосипед. Вскоре вылазки в отдаленные уголки приводят Эмили к открытию тайны, которая поделит всю деревню пополам.

Генерал-лейтенант Александр Александрович Боровский зачитал приказ командующего Добровольческой армии генерала от инфантерии Лавра Георгиевича Корнилова, который гласил, что прапорщик де Боде украл петуха, то есть совершил акт мародёрства, прапорщика отдать под суд, суду разобраться с данным делом и сурово наказать виновного, о выполнении — доложить.

Книга предлагает читателям широкое полотно румынской прозы малых форм — повести и рассказы, в ней преобладает морально-психологическая проблематика, разработанная на материале далекого прошлого (в произведениях В. Войкулеску, Л. Деметриус), недавней истории (Д. Богзы, М. Х. Симионеску, Т. Балинта) и современности (Ф. Паппа, А. Хаузера).
