Избранное - [2]
Два трагических десятилетия, пережитые страной, сказались не только на судьбе, но и на творчестве Ван Мэна. Этот период как бы вычеркнул двадцать лет из жизни писателя, прервалась связь времен, нарушилась логика событий, и, наверное, не случайно Ван Мэн теперь в своих произведениях пытается словно перекинуть мост через два пласта жизни — прошлое и современность. Одной из центральных идей в творчестве писателя, пережившего погромы «культурной революции», становится соединение, слияние всего разделенного временем, отторгнутого в иные пространства.
Вообще творчество Ван Мэна, не являясь прямым отражением фактов его собственной жизни, тем не менее в большой мере автобиографично. Сквозные мотивы, перекликающиеся фабульные звенья, эпизоды, в истоках которых лежит, возможно, жизненный опыт самого писателя, проходят, повторяясь, через его произведения, разделенные даже десятилетиями, не говоря уже о годах. Через весь город бредут молодые влюбленные в раннем романе, «Да здравствует юность!», и в рассказе 1982 г. «Весенний вечер», и в повести 1979 г. «Компривет». И в рассказе, и в повести герои ведут беззвучные мысленные разговоры. Персонажи разных рассказов вспоминают о посадке деревьев на горных склонах в конце 50-х годов, когда их как «правых элементов» сослали на «перевоспитание». Духовное возрождение героев часто сопровождается символическим «возвращением ушедших снов» (рассказы «Воздушный змей и лента» и «Отмирающие корни»). Ну а песни как отчетливый признак времени, как его слепок — их можно назвать одним из опознавательных знаков прозы Ван Мэна: песни китайские, советские, немецкие… И музыка: Чайковский, Бетховен, Римский-Корсаков, Шуберт…
Размышляя об автобиографичности прозы Ван Мэна, нельзя не упомянуть синьцзянские мотивы творчества писателя. Понятны причины любви Ван Мэна к мусульманской культуре Синьцзяна: именно там, в ссылке, он выучил уйгурский язык, познал и полюбил этот край, его народ. Синьцзян — это огромный пласт прозы Ван Мэна: заметки, микроновеллы, рассказы, повести, которые в 1984 г. были объединены в книгу «На реке Или». Повествование в ней идет от первого лица, произведение автобиографично, но «я», от лица которого идет рассказ, — не сам автор, а глаза автора. Иными словами, художественная действительность не повторяет в точности реальных событий, происходивших с самим Ван Мэном, но, увиденная глазами автора, она дает версию этих событий, в вероятности и достоверности которых сомневаться не приходится.
Синьцзян для Ван Мэна имеет не географическое, а биографическое значение, но даже как фрагмент жизни писателя он не остается только в прошлом. Синьцзян Ван Мэна — это второй (после рубежа 40–50-х годов) этап становления личности: это уже не просто попытка механически сделать «своими» канонические нормативы (в первую очередь идейно-политические), а путь к осознанию человеческой «самости», признанию суверенности собственного внутреннего мира (и, как следствие, суверенности миров всех прочих людей). Без этого, второго этапа жизни, возможно, не состоялся бы сегодняшний писатель Ван Мэн с его психологичностью, вдумчивостью, с его глубокими гуманистическими корнями творчества. Была бы, наверное, просто хорошая проза, но без прорыва к качественно иным высотам.
В самое последнее время проза Ван Мэна развивается в совершенно ином направлении. Отличительной особенностью его творчества всегда были малые формы — «точки», по его собственному определению («Нам недостает, — считает писатель, — прозы одного кадра, одного куска, одного чувства, одного высказывания, одного ракурса; из одного возгласа тоже можно составить рассказ»). Отыскивая в пространстве такую «точку», которая могла бы «по-настоящему тронуть вас» (пусть даже вы не осознаете, чем именно задеты струны сердца так, что душа исполнилась музыкальной гармонии и пения), писатель, по его собственному определению своей творческой манеры, пытается воплотить в этой «точке» всю огромность пространства. Ван Мэн — мастер микроскопического анализа, его привлекают тонкие нюансы, детали, внутреннее, а не внешнее движение. И потому художественной свободы у Ван Мэна гораздо больше в рассказах, чем в повестях. Юношеский же роман «Да здравствует юность!» — это скорее сцепление глав-новелл, пространство, не заполненное эпическим временем, нагромождение событий, организованных течением самой жизни, но не художественным сюжетом.
В 1985 г. Ван Мэн завершает работу над романом «Метаморфозы, или Игра в складные картинки». Не отказываясь от «точек» как конкретных, значимых микроэлементов человеческой жизни, делающих ее изображение зримей, осязаемей, писатель в последнем романе разрывает замкнутость этих точек в самих себе, соединяет их в полотно, наполненное эпическим дыханием. «Точками» воссоздается контур всей жизни человека, поколения, эпохи. И если роман «Да здравствует юность!» легко поддается сокращениям (что и сделано в нашем сборнике), то в «Метаморфозах» — цельность, почти недоступная разъятию.
Название романа — ключ к интерпретации заложенной в него идеи. Несовершенен человек, и хорошо бы его монтировать из сборных деталей, подобно тому как в детской игре к туловищу одной складной фигурки можно подобрать ноги и голову от другой или третьей, четвертой… Да и мир, видимо, хорошо бы не принимать как данность, а подвергать изменениям, перебирать варианты в поисках оптимального. По существу, в этом выражается тяга писателя к гармонии, тоска по гармонии, печаль, сопровождающая сознание того, что идеал недостижим, боль от «неосуществленности», присущие всему творчеству Ван Мэна последнего десятилетия.

В сборник включены китайские новеллы, созданные за последнее десятилетие, в том числе и в самые последние годы, изображающие сложные, нередко драматические перипетии в жизни страны и ее народа.Состав сборника и справки об авторах подготовлены издательством «Народная литература», КНР, Пекин.
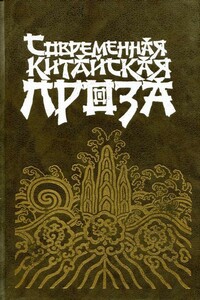
В сборник вошли лучшие произведения китайских авторов 70—80-х годов, большая часть которых удостоена премии, а некоторые уже публиковались в СССР. В значительной мере они критически и правдиво отображают обстановку, сложившуюся во время «культурной революции», а также стремление прогрессивных слоев китайского общества как можно быстрее преодолеть негативные последствия «десятилетия великого бедствия».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
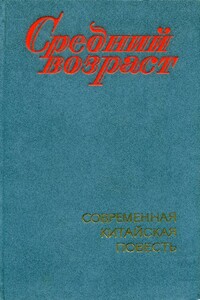
В предлагаемый сборник вошли произведения, в которых главным образом рисуются картины «десятилетия бедствий», как часто именуют теперь в Китае годы так называемой «культурной революции». Разнообразна тематика повестей, рассказывающих о жизни города и деревни, о молодежи и людях старшего поколения, о рабочих, крестьянах, интеллигентах. Здесь и политическая борьба в научном институте (Фэн Цзицай «Крик»), бедственное положение крестьянства (Чжан Игун «Преступник Ли Тунчжун») и нелегкий труд врачей (Шэнь Жун «Средний возраст»), а также другие проблемы, волнующие современный Китай.

«Отранто» — второй роман итальянского писателя Роберто Котронео, с которым мы знакомим российского читателя. «Отранто» — книга о снах и о свершении предначертаний. Ее главный герой — свет. Это свет северных и южных краев, светотень Рембрандта и тени от замка и стен средневекового города. Голландская художница приезжает в Отранто, самый восточный город Италии, чтобы принять участие в реставрации грандиозной напольной мозаики кафедрального собора. Постепенно она начинает понимать, что ее появление здесь предопределено таинственной историей, нити которой тянутся из глубины веков, образуя неожиданные и загадочные переплетения. Смысл этих переплетений проясняется только к концу повествования об истине и случайности, о святости и неизбежности.

Давным-давно, в десятом выпускном классе СШ № 3 города Полтавы, сложилось у Маши Старожицкой такое стихотворение: «А если встречи, споры, ссоры, Короче, все предрешено, И мы — случайные актеры Еще неснятого кино, Где на экране наши судьбы, Уже сплетенные в века. Эй, режиссер! Не надо дублей — Я буду без черновика...». Девочка, собравшаяся в родную столицу на факультет журналистики КГУ, действительно переживала, точно ли выбрала профессию. Но тогда показались Машке эти строки как бы чужими: говорить о волнениях момента составления жизненного сценария следовало бы какими-то другими, не «киношными» словами, лексикой небожителей.

Действие в произведении происходит на берегу Черного моря в античном городе Фазиси, куда приезжает путешественник и будущий историк Геродот и где с ним происходят дивные истории. Прежде всего он обнаруживает, что попал в город, где странным образом исчезло время и где бок-о-бок живут люди разных поколений и даже эпох: аргонавт Язон и французский император Наполеон, Сизиф и римский поэт Овидий. В этом мире все, как обычно, кроме того, что отсутствует само время. В городе он знакомится с рукописями местного рассказчика Диомеда, в которых обнаруживает не менее дивные истории.

Эйприл Мэй подрабатывает дизайнером, чтобы оплатить учебу в художественной школе Нью-Йорка. Однажды ночью, возвращаясь домой, она натыкается на огромную странную статую, похожую на робота в самурайских доспехах. Раньше ее здесь не было, и Эйприл решает разместить в сети видеоролик со статуей, которую в шутку назвала Карлом. А уже на следующий день девушка оказывается в центре внимания: миллионы просмотров, лайков и сообщений в социальных сетях. В одночасье Эйприл становится популярной и богатой, теперь ей не надо сводить концы с концами.

Сказки, сказки, в них и радость, и добро, которое побеждает зло, и вера в светлое завтра, которое наступит, если в него очень сильно верить. Добрая сказка, как лучик солнца, освещает нам мир своим неповторимым светом. Откройте окно, впустите его в свой дом.

Сказка была и будет являться добрым уроком для молодцев. Она легко читается, надолго запоминается и хранится в уголках нашей памяти всю жизнь. Вот только уроки эти, какими бы добрыми или горькими они не были, не всегда хорошо усваиваются.
