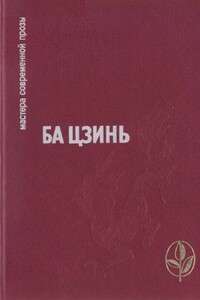Избранное - [2]
Подсознательно-трагическая ментальность, как бы задним планом сложившаяся в оккупированных странах, дала Освобождению легкий привкус горечи. Во Франции «искупительным огнем» явился экзистенциализм с его проблемой этического выбора, во Фландрии конца 40-х — начала 50-х в литературу вошло поколение, мучимое комплексом вины за «ошибки отцов» и добровольно потащившее в гору сизифов камень запутанных в годы войны нравственных императивов.
Хюго Клаус, родившийся в 1929 году, сказал в одном из своих интервью: «Я принадлежу к послевоенному поколению, которое отказывалось от феноменов, призванных раньше внушать почитание». И это утверждение может быть превратно истолковано, если не знать того болевого центра, задавшего определенный угол смещения, определенный поворот зеркал — прямых и кривых, расставленных по всему клаусовскому творчеству, сквозной темой которого стала тема взросления молодого человека в современном мире с порвавшейся «связью времен».
Практически во всех исследованиях, посвященных творчеству Клауса, соблюдается единый композиционный принцип: поэзия — проза — драматургия. И хотя было бы более правильным рассматривать прозу последней, ибо именно клаусовский роман является тем самым «кончерто гроссо», который сводит воедино все темы и мотивы, в подобном подходе есть своя неоспоримая логика, ибо через феномен творчества Хюго Клауса, вобравшего в себя практически весь XX век, пройти возможно лишь как через анфиладу комнат: в каждой новой комнате лежат ключи от двери следующей. Так, поэтическая образная система позволяет отомкнуть сложнейший мир романов и новелл, пространство которых сжимается в почти классицистическую строгость клаусовских пьес.
Иногда создается впечатление, что деление на жанры в творчестве Клауса носит чисто условный характер. Эпический элемент его романов вырастает обычно из своеобразного многоголосья, полифонии голосов персонажей, их монологи перекрещиваются, отталкиваются друг от друга, потом сплетаются в клубок и вновь рассыпаются, подобно осколкам разбитого зеркала. Такая «диалогичная», драматургическая форма многих прозаических произведений Клауса прослеживается на протяжении всего его творческого пути: от раннего романа «Семья Метсир» до последнего сборника рассказов «Люди, что рядом». Клаусовские персонажи говорят, перебивая друг друга, их голоса сливаются в нестройный — для любителя классической музыки — хор, но именно в этой нестройности заключается особая гармония клаусовской прозы, особая ее музыкальность, в основе которой лежит гармония диссонансов, диссонансов психологических, стилистических, интонационных. Именно на этой кажущейся дисгармонии основывается клаусовский психологический реализм — философское и художественное осмысление «диссонансной» действительности XX века.
Условность, подчиненный характер жанровых границ — явление, присущее современной литературе. Говоря об искусстве нашего столетия, Н. Бердяев указывал на две тенденции, этому искусству свойственные: это — «стремления синтетические и стремления аналитические, направленные в стороны противоположные (…), стремления к синтезу искусств, к слиянию их в единую мистерию, и противоположные, стремления к аналитическому расчленению внутри каждого искусства». Как бы наглядной иллюстрацией к этой характеристике может послужить один из ранних опытов Клауса с симптоматичным названием «Процесс без формы» (1949). Молодой поэт определил жанр своего произведения как «стихотворение-пантомима» и «лирическая тема для одного голоса и танца». Здесь уже со всей очевидностью обозначаются попытки преодолеть водораздел между вербальным и визуальным искусством, синхронные поискам большинства послевоенных западноевропейских авангардистов. Не случайно в Париже, этой Мекке современного искусства, куда, как в ученичество, направился девятнадцатилетний Клаус, судьба сводит его с нищим и загадочным, по сей день до конца не расшифрованным гением парижских театральных подмостков Антоненом Арто, создателем «театра жестокости», погрузившимся под конец жизни в мрачный запредел своих исканий. Эта встреча ошеломила молодого фламандца, слегка тяготившегося комплексом провинциальности, дала ослепительно яркую вспышку в пока еще темных коридорах поиска нового языка искусства. Хюго Клаус, назвавший Арто своим духовным отцом, пошел вслед за ним за рубежи традиционного и «устаревших» культурных ценностей к созданию «метафизического языка», лежащего за пределами логики и слов. «Сделать метафизику из членораздельного языка — это заставить язык выражать то, что обычно он не выражает, — писал Арто, — это значит пользоваться им по-новому, исключительным и непривычным образом; это значит придать ему силу физического потрясения».
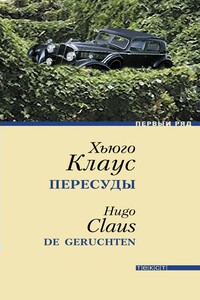
Роман знаменитого фламандского писателя, современного классика Хуго Клауса (1929–2008) «Пересуды» рассказывает о трагической судьбе братьев Картрайссе — бывшего наемника и дезертира Рене и несчастного инвалида Ноэля. Острая социальная критика настоящего и прошлого родной Фландрии скрывается в романе за детективным сюжетом.На русском языке публикуется впервые.
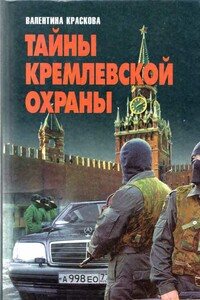
Эта книга о тех, чью профессию можно отнести к числу древнейших. Хранители огня, воды и священных рощ, дворцовые стражники, часовые и сторожа — все эти фигуры присутствуют на дороге Истории. У охранников всех времен общее одно — они всегда лишь только спутники, их место — быть рядом, их роль — хранить, оберегать и защищать нечто более существенное, значительное и ценное, чем они сами. Охранники не тут и не там… Они между двух миров — между властью и народом, рядом с властью, но только у ее дверей, а дальше путь заказан.
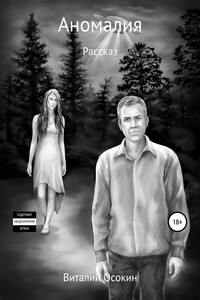
Тайна Пермского треугольника притягивает к себе разных людей: искателей приключений, любителей всего таинственного и непознанного и просто энтузиастов. Два москвича Семён и Алексей едут в аномальную зону, где их ожидают встречи с необычным и интересными людьми. А может быть, им суждено разгадать тайну аномалии. Содержит нецензурную брань.
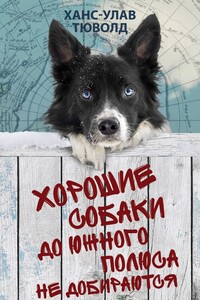
Шлёпик всегда был верным псом. Когда его товарищ-человек, майор Торкильдсен, умирает, Шлёпик и фру Торкильдсен остаются одни. Шлёпик оплакивает майора, утешаясь горами вкуснятины, а фру Торкильдсен – мегалитрами «драконовой воды». Прежде они относились друг к дружке с сомнением, но теперь быстро находят общий язык. И общую тему. Таковой неожиданно оказывается экспедиция Руаля Амундсена на Южный полюс, во главе которой, разумеется, стояли вовсе не люди, а отважные собаки, люди лишь присвоили себе их победу.
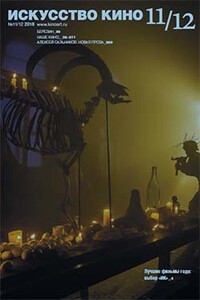
Новелла, написанная Алексеем Сальниковым специально для журнала «Искусство кино». Опубликована в выпуске № 11/12 2018 г.
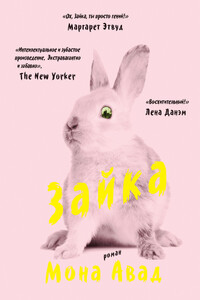
Саманта – студентка претенциозного Университета Уоррена. Она предпочитает свое темное воображение обществу большинства людей и презирает однокурсниц – богатых и невыносимо кукольных девушек, называющих друг друга Зайками. Все меняется, когда она получает от них приглашение на вечеринку и необъяснимым образом не может отказаться. Саманта все глубже погружается в сладкий и зловещий мир Заек, и вот уже их тайны – ее тайны. «Зайка» – завораживающий и дерзкий роман о неравенстве и одиночестве, дружбе и желании, фантастической и ужасной силе воображения, о самой природе творчества.
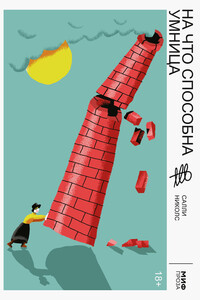
Три смелые девушки из разных слоев общества мечтают найти свой путь в жизни. И этот поиск приводит каждую к борьбе за женские права. Ивлин семнадцать, она мечтает об Оксфорде. Отец может оплатить ее обучение, но уже уготовил другое будущее для дочери: она должна учиться не латыни, а домашнему хозяйству и выйти замуж. Мэй пятнадцать, она поддерживает суфражисток, но не их методы борьбы. И не понимает, почему другие не принимают ее точку зрения, ведь насилие — это ужасно. А когда она встречает Нелл, то видит в ней родственную душу.
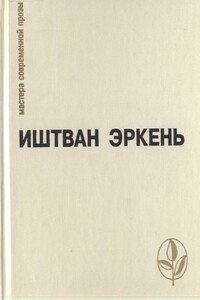
Грозное оружие сатиры И. Эркеня обращено против социальной несправедливости, лжи и обывательского равнодушия, против моральной беспринципности. Вера в торжество гуманизма — таков общественный пафос его творчества.
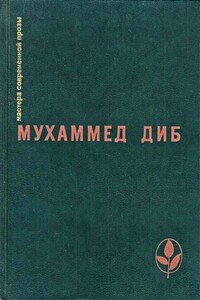
Мухаммед Диб — крупнейший современный алжирский писатель, автор многих романов и новелл, получивших широкое международное признание.В романах «Кто помнит о море», «Пляска смерти», «Бог в стране варваров», «Повелитель охоты», автор затрагивает острые проблемы современной жизни как в странах, освободившихся от колониализма, так и в странах капиталистического Запада.
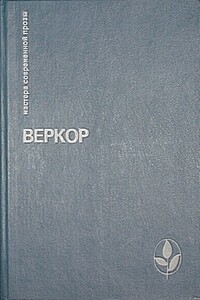
Веркор (настоящее имя Жан Брюллер) — знаменитый французский писатель. Его подпольно изданная повесть «Молчание моря» (1942) стала первым словом литературы французского Сопротивления.Jean Vercors. Le silence de la mer. 1942.Перевод с французского Н. Столяровой и Н. ИпполитовойРедактор О. ТельноваВеркор. Издательство «Радуга». Москва. 1990. (Серия «Мастера современной прозы»).