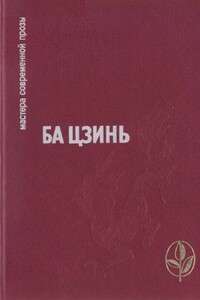Избранное - [13]
Теперь самое время: Пину надо босиком, на четвереньках пробраться в комнату и бесшумно стянуть со стула ремень с пистолетом. И все это — не в шутку, чтобы было потом над чем посмеяться, а ради чего-то важного и таинственного, о чем говорили мужчины в трактире, и глаза у них при этом темнели. Пину все-таки хотелось бы всегда дружить со взрослыми, хотелось бы, чтобы они шутили с ним и поверяли ему свои секреты. Пин любит взрослых, ему нравится злить сильных и глупых взрослых, все сокровенные тайны которых ему известны. Он любит даже немца. Сейчас случится нечто непоправимое; наверно, после этого он больше никогда не сможет шутить с немцем; и с приятелями из трактира у него пойдет все совсем по-другому; случится что-то такое, что прочно свяжет его с ними, и им уже нельзя будет похабно острить; они станут смотреть на него всегда серьезно, с прямыми морщинками между бровей, и вполголоса спрашивать его о самых невероятных вещах. Пину хотелось бы лежать сейчас на кушетке и грезить с открытыми глазами, пока немец тяжело пыхтит, а сестра визгливо хохочет, словно кто-то щекочет ее под мышками, — грезить о шайке мальчишек, которые выберут его своим атаманом, потому что он знает все лучше всех, и о том, как они все вместе пойдут войною на взрослых, и одолеют взрослых, и совершат замечательные подвиги, после которых взрослым придется восхищаться им и тоже выбрать его своим атаманом; но они все равно будут любить его и гладить по голове. А вместо этого ему надо ползти одному, ночью, продираться сквозь ненависть взрослых и красть у немца пистолет; другим детям не приходится делать ничего подобного. Они играют жестяными пистолетами и деревянными саблями. Интересно, что бы они сказали, если бы он завтра встал среди них и, постепенно приоткрывая, показал им настоящий пистолет — блестящий, грозный, который, кажется, вот-вот выстрелит сам собой. Наверняка они бы наложили в штаны. Но возможно, Пину тоже будет страшно прятать настоящий пистолет у себя под курткой. Ему бы один из тех игрушечных пугачей, которые стреляют пробками. С пугачом он нагнал бы такого страху на взрослых, что они попадали бы в обморок и запросили бы у него пощады.
Вместо этого Пин стоит на четвереньках на пороге комнаты, босой, с головой окунувшись в мужские и женские запахи, которые сразу же бьют ему в нос. Он видит смутные очертания мебели, находящейся в комнате, кресло, продолговатое биде, укрепленное на треножнике. Ну вот — с кровати начинает доноситься прерывистое дыхание; сейчас можно ползти, стараясь производить поменьше шума. Говоря по правде, Пин был бы даже рад, если бы скрипнула половица, немец услышал бы и неожиданно зажег свет, тогда Пину пришлось бы удирать, а сестра вопила бы ему вслед: «Скотина!» Ее услышали бы все соседи; об этом заговорили бы в трактире, и он мог бы рассказать Шоферу и Французу ночную историю с такими подробностями, что они поверили бы каждому его слову и сказали бы: «Что поделаешь! Сорвалось. Не будем больше говорить об этом».
Половица действительно скрипит. Но сейчас скрипит почти все, и немец ничего не слышит. Пин уже дополз до ремня. На ощупь ремень — вещь совсем обыкновенная, ничего волшебного в нем нет; он соскальзывает с кресла до ужаса легко и даже не ударяется об пол. Теперь «дело» сделано. Воображаемые страхи становятся страхом реальным. Надо поскорей обмотать ремень вокруг кобуры и запрятать под фуфайку, чтобы не запутаться в нем рукой или ногой; а затем потихоньку ползти обратно и только ни за что на свете не высовывать язык, потому что, если высунешь язык, может случиться нечто ужасное.
О том, чтобы вернуться к себе на кушетку и спрятать пистолет под матрас, куда Пин прячет украденные на рынке яблоки, нечего и думать. Немец скоро встанет, начнет искать пистолет и перевернет все вверх дном.
Пин выходит в переулок. Пистолет его ничуть не волнует. Запрятанный под одеждой, он вещь как вещь, о нем можно забыть. Пину даже не нравится собственное спокойствие. Ему хотелось бы, чтобы при одной мысли о пистолете его охватывала дрожь. Настоящий пистолет! Настоящий пистолет! Пин пытается завестись. У кого есть настоящий пистолет, тот большой человек. Он может сделать все что угодно с женщинами и мужчинами, пригрозив, что пристрелит их.
Сейчас Пин вытащит пистолет и пойдет, выставив его прямо перед собой: никто не посмеет отнять у него пистолет, он на всех наведет страх. Однако обмотанный ремнем пистолет по-прежнему спрятан под фуфайкой, Пин не решается к нему прикоснуться. Он почти надеется, что, когда попытается его нащупать, пистолета на месте не окажется, что он растворится в тепле его тела.
Самое подходящее место, чтобы рассмотреть пистолет, — укромный уголок под лестницей, где ребята играют в прятки и куда попадает лишь косой свет фонаря. Пин раскручивает ремень, открывает кобуру и вытаскивает пистолет так, словно бы поднимает за шиворот котенка. Пистолет в самом деле большой и грозный. Если бы у Пина хватило духу играть с ним, он сделал бы из него пушку. Но Пин держит пистолет как бомбу. Предохранитель? Где же предохранитель?

Книга эта в строгом смысле слова вовсе не роман, а феерическая литературная игра, в которую вы неизбежно оказываетесь вовлечены с самой первой страницы, ведь именно вам автор отвел одну из главных ролей в повествовании: роль Читателя.Время Новостей, №148Культовый роман «Если однажды зимней ночью путник» по праву считается вершиной позднего творчества Итало Кальвино. Десять вставных романов, составляющих оригинальную мозаику классического гипертекста, связаны между собой сквозными персонажами Читателя и Читательницы – главных героев всей книги, окончательный вывод из которого двояк: непрерывность жизни и неизбежность смерти.
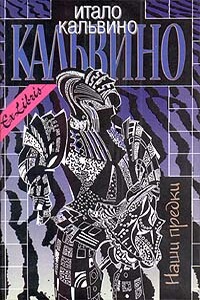
Роман популярного итальянского писателя Итало Кальвино «Барон на дереве» продолжает авторский цикл «Наши предки».Фантасмогорическая реальность, история, игра, сказка — основа сюжетов. Чистая и прозрачная проза — составляющая книги великого итальянского писателя.

Вскоре после войны в итальянскую литературу вошло новое поколение писателей. Закалившие свое мужество в боях с фашизмом, верящие в свой народ и ненавидящие произвол и угнетение, они посвятили свое творчество самым острым проблемам эпохи. Одним из самых талантливых в этой плеяде – в Италии ее именуют теперь средним поколением – был Итало Кальвино. Он родился в 1923 году, был участником Сопротивления. Сопротивлению посвящена и первая его книга — небольшой роман «Тропинка к паучьим гнездам», выпущенный в свет в 1946 году.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
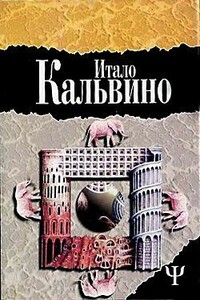
Путешествия в мир видений – так можно охарактеризовать романы, вошедшие в сборник итальянского писателя Итало Кальвино.«Замок скрещенных судеб» – тонкая эзотерическая игра, в которую вовлекает читателей автор, с помощью старинных карт таро рассказывая удивительные истории, оживляя забытые образы.

Сумасшедший Доктор Бернарди снова потряс научную общественность невероятной космогонической гипотезой. К несчастью, истинной…

«Кто лучше знает тебя: приложение в смартфоне или ты сама?» Анна так сильно сомневается в себе, а заодно и в своем бойфренде — хотя тот уже решился сделать ей предложение! — что предпочитает переложить ответственность за свою жизнь на электронную сваху «Кисмет», обещающую подбор идеальной пары. И с этого момента все идет наперекосяк…

Бен Уикс с детства знал, что его ожидает элитная школа Сент-Джеймс, лучшая в Новой Англии. Он безупречный кандидат – только что выиграл национальный чемпионат по сквошу, а предки Бена были основателями школы. Есть лишь одна проблема – почти все семейное состояние Уиксов растрачено. Соседом Бена по комнате становится Ахмед аль-Халед – сын сказочно богатого эмиратского шейха. Преисполненный амбициями, Ахмед совершенно не ориентируется в негласных правилах этикета Сент-Джеймс. Постепенно неприятное соседство превращается в дружбу и взаимную поддержку.

Самое завораживающее в этой книге — задача, которую поставил перед собой автор: разгадать тайну смерти. Узнать, что ожидает каждого из нас за тем пределом, что обозначен прекращением дыхания и сердцебиения. Нужно обладать отвагой дебютанта, чтобы отважиться на постижение этой самой мучительной тайны. Талантливый автор романа `После запятой` — дебютант. И его смелость неофита — читатель сам убедится — оправдывает себя. Пусть на многие вопросы ответы так и не найдены — зато читатель приобщается к тайне бьющей вокруг нас живой жизни. Если я и вправду умерла, то кто же будет стирать всю эту одежду? Наверное, ее выбросят.

Однажды утром Майя решается на отчаянный поступок: идет к директору школы и обвиняет своего парня в насилии. Решение дается ей нелегко, она понимает — не все поверят, что Майк, звезда школьной команды по бегу, золотой мальчик, способен на такое. Ее подруга, феминистка-активистка, считает, что нужно бороться за справедливость, и берется организовать акцию протеста, которая в итоге оборачивается мероприятием, не имеющим отношения к проблеме Майи. Вместе девушки пытаются разобраться в себе, в том, кто они на самом деле: сильные личности, точно знающие, чего хотят и чего добиваются, или жертвы, не способные справиться с грузом ответственности, возложенным на них родителями, обществом и ими самими.

История о девушке, которая смогла изменить свою жизнь и полюбить вновь. От автора бестселлеров New York Times Стефани Эванович! После смерти мужа Холли осталась совсем одна, разбитая, несчастная и с устрашающей цифрой на весах. Но судьба – удивительная штука. Она сталкивает Холли с Логаном Монтгомери, персональным тренером голливудских звезд. Он предлагает девушке свою помощь. Теперь Холли предстоит долгая работа над собой, но она даже не представляет, чем обернется это знакомство на борту самолета.«Невероятно увлекательный дебютный роман Стефани Эванович завораживает своим остроумием, душевностью и оригинальностью… Уникальные персонажи, горячие сексуальные сцены и эмоционально насыщенная история создают чудесную жемчужину». – Publishers Weekly «Соблазнительно, умно и сексуально!» – Susan Anderson, New York Times bestselling author of That Thing Called Love «Отличный дебют Стефани Эванович.

Джозеф Хансен (1923–2004) — крупнейший американский писатель, автор более 40 книг, долгие годы преподававший художественную литературу в Лос-анджелесском университете. В США и Великобритании известность ему принесла серия популярных детективных романов, главный герой которых — частный детектив Дэйв Брандсеттер. Роман «Год Иова», согласно отзывам большинства критиков, является лучшим произведением Хансена. «Год Иова» — 12 месяцев на рубеже 1980-х годов. Быт голливудского актера-гея Оливера Джуита. Ему за 50, у него очаровательный молодой любовник Билл, который, кажется, больше любит образ, созданный Оливером на экране, чем его самого.
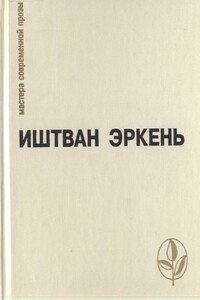
Грозное оружие сатиры И. Эркеня обращено против социальной несправедливости, лжи и обывательского равнодушия, против моральной беспринципности. Вера в торжество гуманизма — таков общественный пафос его творчества.
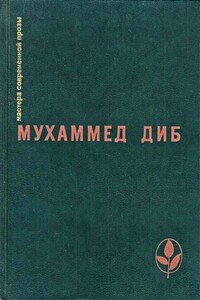
Мухаммед Диб — крупнейший современный алжирский писатель, автор многих романов и новелл, получивших широкое международное признание.В романах «Кто помнит о море», «Пляска смерти», «Бог в стране варваров», «Повелитель охоты», автор затрагивает острые проблемы современной жизни как в странах, освободившихся от колониализма, так и в странах капиталистического Запада.
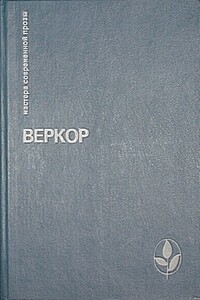
Веркор (настоящее имя Жан Брюллер) — знаменитый французский писатель. Его подпольно изданная повесть «Молчание моря» (1942) стала первым словом литературы французского Сопротивления.Jean Vercors. Le silence de la mer. 1942.Перевод с французского Н. Столяровой и Н. ИпполитовойРедактор О. ТельноваВеркор. Издательство «Радуга». Москва. 1990. (Серия «Мастера современной прозы»).