Из записок о 1812 годе (Очерки Бородинского сражения) - [3]
ВХОД ГОСУДАРЯ В ЗАЛУ ДВОРЯНСКОГО СОБРАНИЯ
Слезы блистали еще на глазах государя, когда он вошел в залу Дворянского собрания <...>
При выходе государя Петр Степанович Валуев схватил меня за руку и сказал: "Пойдем, Сергей Николаевич! Я представлю вас государю".-"Ваше высокопревосходительство!-отвечал я,-теперь не до меня". Не этим словом вырвав руку, я опрометью бросился с крыльца. Предчувствуя, что до моего приезда долетят рассказы стоустой молвы в семейство мое, я поспешил домой. Сбылось мое предчувствие. Застаю бедную жену мою в страдании и в горьких слезах. Некоторые из услужливых моих знакомых настращали ее, что мне за отважные мои возгласы в собрании не миновать беды. "Молись богу, мой друг!-сказал я плачущей жене моей,- знаю, что меня позовут, а потому на всякий случай заготовь белый жилет и белую косынку. Когда потребуют, то поеду во фраке. Чужой губернский мундир насмешил и меня и знакомых моих". Неизъяснима была душевная пытка жены моей. Куда ни бросалась она для какой-нибудь отрадной вести, везде убеждали ее ждать участи своей и укрепляться верою: так напугал голос мой, раздавшийся в собрании Дворянском по одному порыву душевному.
ПЕРЕЛЕТ ДВУХ СТОЛЕТИЙ ОТ 1612 ДО 1812 ГОДА
Остановимся здесь и-можно остановиться: два столетия совершили дивный ход. Совершили, или лучше сказать, одно столетие перешло в другое с достопамятными событиями своими, хотя и не в таком исполинском объеме. Отчего это? Кроме солнца и области небесной, кроме земель незаселенных, в России возникла новая Россия с иными нравами, обычаями, мнениями и действием мыслей. Отчего же и в новой России обращались к старинной России, отчего 1812 года вызывали тени Минина и Пожарского? Отчего вместе с ними вызывали и заветную речь русскую?
В мире духовном бог и слово возносятся на одной чреде. Слово скрепило союз вещественной вселенной; слово, слитое с мыслью, образовало общество человеческое. Слово жизни, слово задушевное, сберегло 1612 года бытие России, где бури грозные со всех сторон расшатывали заветное древо, укорененное родным словом в недрах почвы отечественной. "Аще корня не будет, то к чему древу прилепиться?" - так говорили предки наши и летели к Москве и в Москву к поддержанию древа жизни русского Отечества.
Нашествие 1812 года встретило в России Европу. И так не внешнее оружие изменило мысль, что Россия не в Москве. За несколько лет до нашествия громкие раздавались рукоплескания на берегах Невы, когда в трагедии Крюковского не князь Пожарский, но сочинитель, сказал:
"Россия не в Москве, она в сердцах сынов..."
"Но думаете ли вы, что величие города заключается в груде камней и зданий? То есть в памятниках бездушных и безгласных?"(Тацит. (Прим. автора.))
В причудливых изворотах тщеславного света и в вихре суетливости некогда сердцу высказываться сердцу; некогда вдруг и, так сказать, налетом вдохнуть в себя жизнь, исторгнутую из души призраками холодного быта светского.
ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ С ГРАФОМ Ф. В. РОСТОПЧИНЫМ 19 ИЮЛЯ 1812 ГОДА
Между тем часу в одиннадцатом возвращаюсь с прогулки. Жена моя почти без памяти сидела на софе. Увидя меня, она вскричала: "От графа Ростопчина приехал ординарец!" "Я ожидал этого; а ты молись богу и вели подать мне косынку и белый жилет". Переодевшись, поспешил я к графу, находившемуся тогда в Москве, а не на даче. С графом был только адъютант его Обресков. Подбежав ко мне, граф сказал: "Забудем прошедшее, теперь дело идет о судьбе Отечества" (С декабря 1809 до этого времени мы были в личной размолвке с графом. (Прим. автора.)).
ВОЗЛОЖЕНИЕ ОСОБЕННЫХ ПРЕПОРУЧЕНИИ НА СОЧИНИТЕЛЯ "ЗАПИСОК"
Взяв со стола бумагу и орден, граф продолжал: "Государь жалует вас кавалером четвертой степени Владимира за любовь вашу к Отечеству, доказанную сочинениями и деяниями вашими. Так изображено в рескрипте за собственноручною подписью государя императора. Вот рескрипт и орден". Адъютант бросился улаживать в петлице орден, а граф прибавил: "Поздравляю вас кавалером". С этим словом поцеловал он меня и продолжал: "Священным именем государя императора развязываю вам язык на все полезное для Отечества, а руки на триста тысяч экстраординарной суммы. Государь возлагает на вас особенные поручения, по которым будете совещаться со мною".
"Благодарю государя,-отвечал я,-но позвольте мне поспешить к жене моей. У нее трое суток отзывается в ушах звон сибирского колокольчика".
Не стану описывать восторга жены моей. Минуло более двадцати лет, но миг нашего свидания все еще в полной свежести живет в душах наших. Ожидая меня, она сидела у открытого окна. Поравнявшись с домом, я взмахнул длинною лентою ордена и сказал: "Вот крест, а не беда!"
ОСОБЕННЫЕ ПОРУЧЕНИЯ. 19 ИЮЛЯ 1812 ГОДА
Немедленно приступил я к тем особенным поручениям, с которыми нередко и в Москве и вне стен ее сопряжена была опасность жизни. Но тогда жизнь была для меня последним условием. Я был счастлив и под грозною тучею, быстро устремлявшеюся к Москве. Провидение помогало мне оживлять души добрых граждан, успокаивать их умы и внушать им меры осторожности, предостерегая их от смущения и торопливой робости. Непрестанное присутствие мое на площадях, на рынках и на улицах московских сроднило со мною взоры, мысли и сердца московских обывателей. Действуя открытою грудью и громким словом, я не прикасался рукою к сотням тысячам, вверенным мне вместе с свободою развязанных уст. Однажды только по записке моей, препровождены были в село Крылатское кушак и шапка крестьянину Никифору, благословившему на брань трех сынов своих. Деньги хороши как средство к оборотам потребностей быта общественного, но беда, где они заполонят общество человеческое; беда, где, говоря словами нашего девятнадцатого столетия, они делаются представителями всех наслаждений и приманкою страстей! При восстании душ действуйте на них силою нравственною, уравнивающею дух народный с величием необычайных обстоятельств.
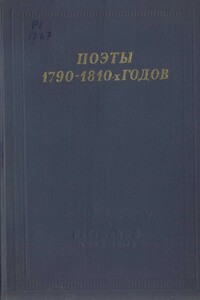
Сборник «Поэты 1790–1810-х годов» знакомит читателей с одним из самых сложных и интересных периодов в истории развития отечественной поэзии. В сборнике представлены объединения (Общество друзей словесных наук, Дружеское литературное общество, «Беседа любителей русского слова» и др.), в которых сосредоточивалась в основном литературная жизнь Москвы и Петербурга. Сюда вошли поэты, чье творчество, составлявшее литературный «фон» эпохи, вызывало когда-то ожесточенные споры, бурную полемику (С. С. Бобров, А. Ф. Воейков, Андр.

Чудесные исцеления и пророчества, видения во сне и наяву, музыкальный восторг и вдохновение, безумие и жестокость – как запечатлелись в русской культуре XIX и XX веков феномены, которые принято относить к сфере иррационального? Как их воспринимали богословы, врачи, социологи, поэты, композиторы, критики, чиновники и психиатры? Стремясь ответить на эти вопросы, авторы сборника соотносят взгляды «изнутри», то есть голоса тех, кто переживал необычные состояния, со взглядами «извне» – реакциями церковных, государственных и научных авторитетов, полагавших необходимым если не регулировать, то хотя бы объяснять подобные явления.

Новая искренность стала глобальным культурным феноменом вскоре после краха коммунистической системы. Ее влияние ощущается в литературе и журналистике, искусстве и дизайне, моде и кино, рекламе и архитектуре. В своей книге историк культуры Эллен Руттен прослеживает, как зарождается и проникает в общественную жизнь новая риторика прямого социального высказывания с характерным для нее сложным сочетанием предельной честности и иронической словесной игры. Анализируя этот мощный тренд, берущий истоки в позднесоветской России, автор поднимает важную тему трансформации идентичности в посткоммунистическом, постмодернистском и постдигитальном мире.

В книге рассматривается столетний период сибирской истории (1580–1680-е годы), когда хан Кучум, а затем его дети и внуки вели борьбу за возвращение власти над Сибирским ханством. Впервые подробно исследуются условия жизни хана и царевичей в степном изгнании, их коалиции с соседними правителями, прежде всего калмыцкими. Большое внимание уделено отношениям Кучума и Кучумовичей с их бывшими подданными — сибирскими татарами и башкирами. Описываются многолетние усилия московской дипломатии по переманиванию сибирских династов под власть русского «белого царя».

Предлагаемая читателю книга посвящена истории взаимоотношений Православной Церкви Чешских земель и Словакии с Русской Православной Церковью. При этом главное внимание уделено сложному и во многом ключевому периоду — первой половине XX века, который характеризуется двумя Мировыми войнами и установлением социалистического режима в Чехословакии. Именно в этот период зарождавшаяся Чехословацкая Православная Церковь имела наиболее тесные связи с Русским Православием, сначала с Российской Церковью, затем с русской церковной эмиграцией, и далее с Московским Патриархатом.

Н.Ф. Дубровин – историк, академик, генерал. Он занимает особое место среди военных историков второй половины XIX века. По существу, он не примкнул ни к одному из течений, определившихся в военно-исторической науке того времени. Круг интересов ученого был весьма обширен. Данный исторический труд автора рассказывает о событиях, произошедших в России в 1773–1774 годах и известных нам под названием «Пугачевщина». Дубровин изучил колоссальное количество материалов, хранящихся в архивах Петербурга и Москвы и документы из частных архивов.

В монографии рассматриваются произведения французских хронистов XIV в., в творчестве которых отразились взгляды различных социальных группировок. Автор исследует три основных направления во французской историографии XIV в., определяемых интересами дворянства, городского патрициата и крестьянско-плебейских масс. Исследование основано на хрониках, а также на обширном документальном материале, произведениях поэзии и т. д. В книгу включены многочисленные отрывки из наиболее крупных французских хроник.