Из записок князя Д.Нехлюдова (Люцерн) - [5]
– Простого вина прикажете? – сказал он с знающим видом, подмигивая мне на моего собеседника и из руки в руку перекидывая салфетку.
– Шампанского, и самого лучшего, – сказал я, стараясь принять самый гордый и величественный вид. Но ни шампанское, ни мой будто бы гордый и величественный вид не подействовали на лакея; он усмехнулся, постоял немножко, глядя на нас, не торопясь посмотрел на золотые часы и тихими шагами, как бы прогуливаясь, вышел из комнаты. Скоро он возвратился с вином и еще двумя лакеями. Два из них сели около судомойки и с веселой внимательностью и кроткой улыбкой на лицах любовались на нас, как любуются родители на милых детей, когда они мило играют. Одна только горбатая судомойка, казалось, не насмешливо, а с участием смотрела на нас. Хотя мне было и очень тяжело и неловко под огнем этих лакейских глаз беседовать с певцом и угощать его, я старался делать свое дело сколь возможно независимо. При огне я его рассмотрел лучше. Это был крошечный, пропорционально сложенный, жилистый человек, почти карлик, с щетинистыми черными волосами, всегда плачущими большими черными глазами, лишенными ресниц, и чрезвычайно приятным, умильно сложенным ротиком. У него были маленькие бакенбарды, волоса были недлинны, одежда была самая простая и бедная. Он был нечист, оборван, загорел и вообще имел вид трудового человека. Он скорей был похож на бедного торговца, чем на артиста. Только в постоянно влажных, блестящих глазах и собранном ротике было что-то оригинальное и трогательное. На вид ему можно было дать от двадцати пяти до сорока лет; действительно же ему было тридцать восемь.
Вот что он с добродушной готовностью и очевидной искренностью рассказал про свою жизнь. Он из Арговии. В детстве еще он потерял отца и мать, других родных у него нет. Состояния он никогда не имел никакого. Он обучался столярному мастерству, но двадцать два года тому назад у него сделался костоед в руке, лишивший его возможности работать. Он с детства имел охоту к пенью и стал петь. Иностранцы давали ему изредка деньги. Он сделал из этого профессию, купил гитару и вот восьмнадцатый год странствует по Швейцарии и Италии, распевая перед гостиницами. Весь его багаж – гитара и кошелек, в котором у него теперь было только полтора франка, которые он должен проспать и проесть нынче же вечером. Он каждый год, уж восьмнадцать раз, проходит все лучшие, наиболее посещаемые места Швейцарии: Цюрих, Люцерн, Интерлакен, Шамуни и т. д.; через St.-Bernard проходит в Италию и возвращается через St.-Gotard или через Савойю. Теперь ему тяжело становится ходить, потому что от простуды он чувствует, что боль в ногах, которую он называет глидерзухт, с каждым годом усиливается и что глаза и голос его становятся слабее. Несмотря на это, он теперь отправляется в Интерлакен, Aix-les-Bains и, через малый St.-Bernard, в Италию, которую он особенно любит; вообще, как кажется, он очень доволен своей жизнью. Когда я спросил у него, зачем он возвращается домой, есть ли у него там родные, или дом и земля, ротик его, как будто на сборках, собрался в веселую улыбочку, и он отвечал мне.
– Oui, le sucre est bon, il est doux pour les enfants! [10]— и подмигнул на лакеев.
Я ничего не понял, но в лакейской группе засмеялись.
– Ничего нет, а то разве я бы стал ходить так, – объяснил он мне, – а прихожу домой, потому что все-таки как-то тянет к себе на родину.
И он еще раз с хитро-самодовольной улыбкой повторил фразу: «Oui, le sucre est bon», – и добродушно рассмеялся. Лакеи очень были довольны и хохотали, одна горбатая судомойка большими добрыми глазами серьезно смотрела на маленького человечка и подняла ему шапку, которую он во время разговора уронил с лавки. Я замечал, что странствующие певцы, акробаты, даже фокусники любят называть себя артистами, и потому несколько раз намекал своему собеседнику на то, что он артист, но он вовсе не признавал за собой этого качества, а весьма просто, как на средство к жизни, смотрел на свое дело. Когда я спросил его, не сам ли он сочиняет песни, которые поет, он удивился такому странному вопросу и отвечал, что куда ему, это всё старинные тирольские песни.
– А как же песня Риги? я думаю, не старинная? – сказал я.
– Да, это лет пятнадцать тому назад сочинена. Был один немец в Базеле, умнейший был человек, это он сочинил ее. Отличная песня! Это, видите, он для путешественников сочинил.
И он начал мне, переводя по-французски, рассказывать слова песни Риги, которая, видно, ему очень нравилась:
– О, отличная песня! – заключил он.
Лакеи находили, вероятно, эту песню весьма хорошей, потому что приблизились к нам.
– Ну, а музыку кто же сочинял? – спросил я.
– Да никто, это так, знаете, чтобы петь для иностранцев, надо что-нибудь новенькое.
Когда нам принесли льду и я налил моему собеседнику стакан шампанского, ему, видимо, стало неловко, и он, оглядываясь на лакеев, поворачивался на своей лавке. Мы чокнулись за здоровье артистов; он отпил полстакана и нашел нужным задуматься и глубокомысленно повести бровями.

Рассказы, собранные в этой книге, были написаны великим русским писателем Львом Николаевичем Толстым (1828–1910) специально для детей. Вот как это было. В те времена народ был безграмотный, школ в городах было мало, а в деревнях их почти не было.Лев Николаевич Толстой устроил в своём имении Ясная Поляна школу для крестьянских детей. А так как учебников тоже не было, Толстой написал их сам.Так появились «Азбука» и «Четыре русские книги для чтения». По ним учились несколько поколений русских детей.Рассказы, которые вы прочтёте в этом издании, взяты из учебных книг Л.

Те, кто никогда не читал "Войну и мир", смогут насладиться первым вариантом этого великого романа; тех же, кто читал, ждет увлекательная возможность сравнить его с "каноническим" текстом. (Николай Толстой)

«Анна Каренина», один из самых знаменитых романов Льва Толстого, начинается ставшей афоризмом фразой: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Это книга о вечных ценностях: о любви, о вере, о семье, о человеческом достоинстве.
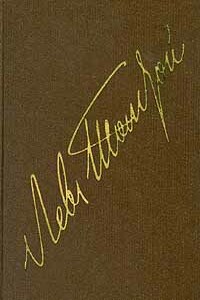
В томе печатается роман «Воскресение» (1889–1899) — последний роман Л. Н. Толстого.http://rulitera.narod.ru.

Детство — Что может быть интереснее и прекраснее открытия мира детскими глазами? Именно они всегда широко открыты, очень внимательны и на редкость проницательны. Поэтому Лев Толстой взглянул вокруг глазами маленького дворянина Николеньки Иртеньева и еще раз показал чистоту и низменность чувств, искренность и ложь, красоту и уродство...
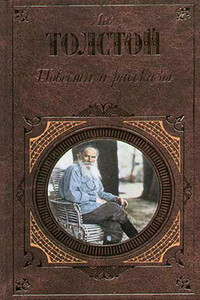
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
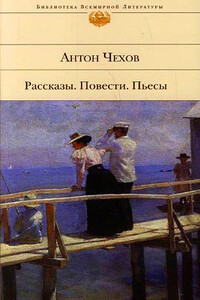
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1896, номер 136, 19 мая.В собрания сочинений не включалось.Печатается по тексту газеты «Нижегородский листок».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Впервые опубликовано – в альманахе «Война золотом. Альманах приключении», М. 1927. Издание это изобилует опечатками, обессмысливающими текст. Печатается по автографу (ЦГАЛИ).

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
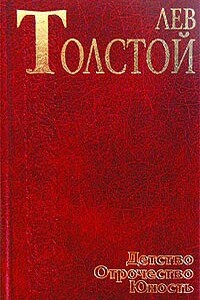
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Кавказская повесть. Тяготение к народной теме, широкому эпосу вызревало у Толстого уже в повести «Казаки» (1853-63). На Кавказе, среди величавой природы и простых, чистых сердцем людей герой повести полнее сознаёт фальш светского общества и отрекается от лжи, в какой жил прежде. Критерием правды социального поведения для Т. становится природа и сознание человека, близкого природе, почти сливающегося с ней.
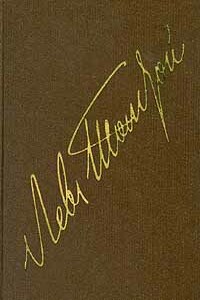
Мысль о повести «Хаджи-Мурат» Толстой вынашивал со времен участия в Кавказской войне. Что привлекало писателя в этом участнике освободительной борьбы кавказских горцев? Толстого восхищала его способность всецело отдаваться начатому делу, его беспредельное упорство в борьбе. «Один, а не сдается!» Эти качества были присущи и самому писателю. Хаджи-Мурат был прирожденным джигитом, могущественным и удалым наибом Шамиля. Он пользовался славой среди кавказских народов. Его подвиги были совершенно необыкновенными: «Он являлся там, где его не ожидали, и уходил так, что нельзя было полками окружить его».