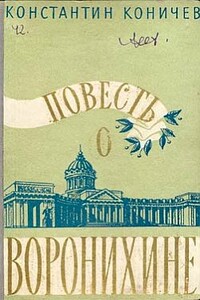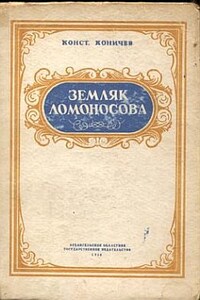Из моей копилки - [5]
Вооружение – железные трости, колья, булыжники, гири на ремешках. Ножи запрещались неписаным за коном и взаимным пониманием, ружья не допускались тоже, а револьверов ни у кого не было.
Мы с матерью стояли на берегу Лебзовки, примерно за полверсты от места драки.
Неистовые крики, ругань, треск кольев, рев битых и даже «ура» заглушили все земное, человеческое.
Помню, мать с заплаканными глазами высматривала, где в этом месиве мотается мой батько. Но в многолюдной толчее, да еще издали, ничего не разобрать.
Девки головинских деревень под руки приводили к нам на бережок раненых. Отмывали водой, перевязывали платками, разорванными рубахами.
С двух сторон битых-перебитых всерьез и налегке насчитывалось свыше двухсот человек. Большинство из них на своих ногах могли добраться до Устьянской больницы.
Драка считалась вполне мирной, без жертв. И потому не вошла в историю генеральных драк головинщины с монастырщиной, скоро была забыта.
Мой отец от удара острым камнем чуть повыше левого глаза получил в схватке глубокий шрам и некоторое время гордился этой отметиной, как наградой…
Из-за чего назревали и возникали драки, ни тогда, ни после никто не мог объяснить.
10. КАЗАКИ
ОТ ДЕРЕВНИ Ивановской до речки Лебзовки они мчались – пыль столбом. На речке спешились, выкупались и стали коней купать. Из нашей Попихи все это видели, и, поскольку от казаков добра не ждали, мужики поголовно, кроме десятского Пашки Петрушина, попрятались, кто где мог. Кто в сарае в сено зарылся, кто в подовин за печку укрылся, в стога и в скирды залезли, а некоторые догадались убежать в кокоуревский ельник, куда никакой казак не проберется при всем желании. Остались в деревне одни бабы с ребятней мал мала меньше.
Шесть всадников в белых гимнастерках, ружья за спиной, сабли сбоку, въехали в Попиху. Несколько баб перестали на задворках шевелить сено, вышли на улицу. Притихли, с опаской поглядывая на круглолицых, упитанных казаков. Старший из них крикнул:
– Бабы, молока! Да нет ли похолодней, с погребка?!
Шесть кринок молока опорожнили казаки мгновенно, не сходя с лошадей. Один из них сказал за всех спасибо и спросил:
– А почему такая мертвая деревня? Где мужики?
Бабы неохотно ответили:
– Кто где – кто на сплаве, кто на рыбалке, кто на пожнях докашивает…
– Не нас ли испугались?
– Зачем пугаться, – отвечали бабы, – наши мужики смиренные, зла никому не делают. Стегать их не за что… – Говорят бабы, а сами робеют: у казаков нагайки в руках плетеные, с оловянными наконечниками.
Из другого конца деревни по пыльной улице в стоптанных валенках, не робея, шел, переваливаясь с боку на бок, бобыль Пашка Петрушин. Подошел, поклонился:
– Здравствуйте, господа начальнички… И нас не миновали. Ваше дело тоже подневольное – куда пошлют да что прикажут, то и делаете. Служба!
– Смотри, какой философ! Ты лучше скажи нам, почему и куда мужики попрятались? – спросил старший.
– Куда – не знаю, а почему – известное дело почему: не хотят быть поротыми.
– А за что? Чего они такого натворили?
– А ведь и ни за что можно под горячую руку. Страху-то вы кое-где поднагнали, вот и прячутся.
– Да не ври, Пашка, на людей, все при своих делах, никто не хоронится. Чего тебе дурь в голову лезет напраслину возводить? – возразили бабы.
– Во все века прятались, – невзирая на соседок, продолжал Пашка, – наша местность такая: от Грозного Ивана прятались, от новгородцев прятались, от польских панов прятались, от никоновцев прятались, теперь вас побаиваются. А почему? Рассудите сами…
– На обратном пути рассудим, – пообещал старший, – зря прятаться не стали бы. Видно, есть отчего.
– А ничего нет, – занозисто ответил Пашка, – у нас тут не плуты и не воры, не разбойники. А свой закон: береженое и бог бережет, против сильного не борись, с богатым не судись…
– Поехали, хлопцы! – скомандовал старший.
Пришпорив коней, все шестеро понеслись по большому проселку.
– Бог миловал! – перекрестились бабы.
Казаки возвращались из своего объезда другим путем. Больше их в Попихе не видали.
11. КОЛЕЧКО
КОГДА смерть стоит у порога, не трудно догадаться, что она скоро войдет в избу.
Моего отца, охваченного после очередной драки «антоновым огнем», фельдшер объявил безнадежным. Отец принял этот приговор довольно спокойно, сказав:
– Сам вижу, сам знаю… Позовите попа, может, есть тот свет, пусть исповедает.
Привезли попа. Накинув на себя серебристый набрюшник-епитрахиль, поп прочел страничку из Евангелия, поспрашивал отца о грехах, причастил, ткнул крестом в губы и, получив монетки, уехал восвояси.
У отца было еще время отдать кое-какие распоряжения:
– Умру, выходи замуж хоть за черта, только не обижай сироту Костюшу, – завещал он моей мачехе, прожившей с ним всего полгода.
Меня он погладил по голове, прослезился:
– Жаль, не вырастил тебя, не выучил птенчика летать… Будешь большой – умей за себя постоять. Выучись…
Я ответил ему слезами.
– Разобрало, значит…
Он лежал на широкой лавке, к ней была приставлена скамейка, чтобы больной, разбитый в драке отец не скатился на пол. Левая рука у него от самой кисти и до плеча ужасно распухла и посинела до черноты. Это и был антонов огонь. На указательном, распухшем пальце резко обозначилось белое, как из сметаны, кольцо.
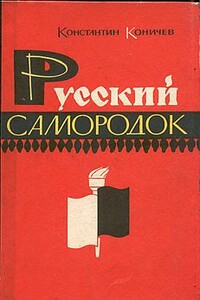
Автор этой книги известен читателям по ранее вышедшим повестям о деятелях русского искусства – о скульпторе Федоте Шубине, архитекторе Воронихине и художнике-баталисте Верещагине. Новая книга Константина Коничева «Русский самородок» повествует о жизни и деятельности замечательного русского книгоиздателя Ивана Дмитриевича Сытина. Повесть о нем – не обычное жизнеописание, а произведение в известной степени художественное, с допущением авторского домысла, вытекающего из фактов, имевших место в жизни персонажей повествования, из исторической обстановки.
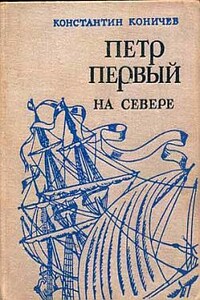
Подзаголовок этой книги гласит: «Повествование о Петре Первом, о делах его и сподвижниках на Севере, по документам и преданиям написано».
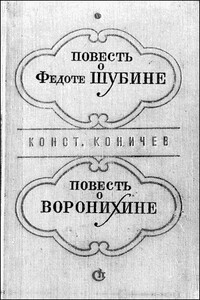
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
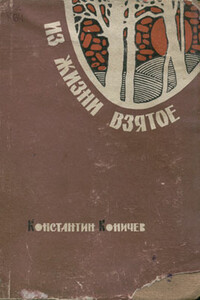
Имя Константина Ивановича Коничева хорошо известно читателям. Они знакомы с его книгами «Деревенская повесть» и «К северу от Вологды», историко-биографическими повестями о судьбах выдающихся русских людей, связанных с Севером, – «Повесть о Федоте Шубине», «Повесть о Верещагине», «Повесть о Воронихине», сборником очерков «Люди больших дел» и другими произведениями.В этом году литературная общественность отметила шестидесятилетний юбилей К. И. Коничева. Но он по-прежнему полон творческих сил и замыслов. Юбилейное издание «Из жизни взятое» включает в себя новую повесть К.
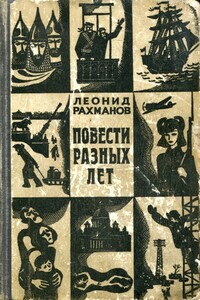
Леонид Рахманов — прозаик, драматург и киносценарист. Широкую известность и признание получила его пьеса «Беспокойная старость», а также киносценарий «Депутат Балтики». Здесь собраны вещи, написанные как в начале творческого пути, так и в зрелые годы. Книга раскрывает широту и разнообразие творческих интересов писателя.
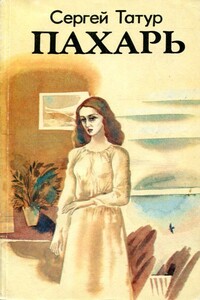
Герои повести Сергея Татура — наши современники. В центре внимания автора — неординарные жизненные ситуации, формирующие понятия чести, совести, долга, ответственности. Действие романа разворачивается на голодностепской целине, в исследовательской лаборатории Ташкента. Никакой нетерпимости к тем, кто живет вполнакала, работает вполсилы, только бескомпромиссная борьба с ними на всех фронтах — таково кредо автора и его героев.

В новом своем произведении — романе «Млечный Путь» известный башкирский прозаик воссоздает сложную атмосферу послевоенного времени, говорит о драматических судьбах бывших солдат-фронтовиков, не сразу нашедших себя в мирной жизни. Уже в наши дни, в зрелом возрасте главный герой — боевой офицер Мансур Кутушев — мысленно перебирает страницы своей биографии, неотделимой от суровой правды и заблуждений, выпавших на его время. Несмотря на ошибки молодости, горечь поражений и утрат, он не изменил идеалам юности, сохранил веру в высокое назначение человека.
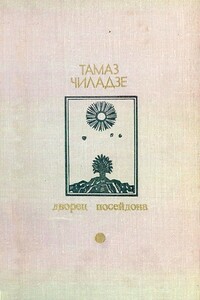
Сборник произведений грузинского советского писателя Чиладзе Тамаза Ивановича (р. 1931). В произведениях Т. Чиладзе отражены актуальные проблемы современности; его основной герой — молодой человек 50–60-х гг., ищущий своё место в жизни.
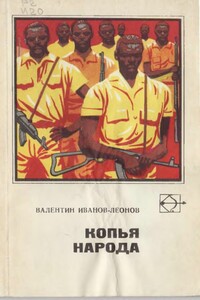
Повести и рассказы советского писателя и журналиста В. Г. Иванова-Леонова, объединенные темой антиколониальной борьбы народов Южной Африки в 60-е годы.
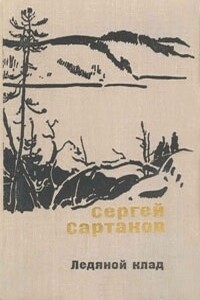
В однотомник Сергея Венедиктовича Сартакова входят роман «Ледяной клад» и повесть «Журавли летят на юг».Борьба за спасение леса, замороженного в реке, — фон, на котором раскрываются судьбы и характеры человеческие, светлые и трагические, устремленные к возвышенным целям и блуждающие в тупиках. ЛЕДЯНОЙ КЛАД — это и душа человеческая, подчас скованная внутренним холодом. И надо бережно оттаять ее.Глубокая осень. ЖУРАВЛИ УЛЕТАЮТ НА ЮГ. На могучей сибирской реке Енисее бушуют свирепые штормы. До ледостава остаются считанные дни.