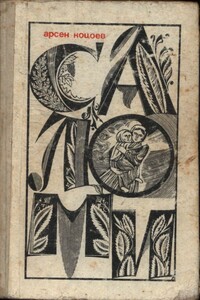Из глубин памяти - [18]
Я уже не прерывал Александра Петровича. Радостно изумленный, я только смотрел и слушал. Какой талант раскрывался передо мною! Как певуче звучала в устах Довженко украинская «мова»! Как подымался его голос в лирических и патетических сценах! Должен сказать, что, когда потом я смотрел фильм, он не произвел на меня такого сильного впечатления, как эта игра-показ Довженко в большом пустом кабинете с длинным унылым столом, приставленным к моему столу, образуя вместе букву «Т», с канцелярскими стульями, — в обстановке совсем не вдохновляющей. Может быть, именно в эту минуту я более всего оценил оригинальность мысли и душевную силу Александра Петровича, который так и не успел до конца раскрыть в своих работах того, чем он обладал.
Наконец Довженко кончил, закрыл папку. Мы помолчали.
— Попробуйте поговорить с Д. — сказал я. — Может быть, вы его убедите.
— Попробую, — хмуро ответил Александр Петрович.
Я не знаю, состоялся ли этот разговор или дело уладилось без него. Так или иначе, Довженко забрал сценарий с пометами Д. и уехал. Начались съемки.
Среди замечаний Д. было одно, которое мне особенно запомнилось.
В сценарии была приблизительно такая сцена (излагаю по памяти). После боя, жарким августовским днем, Щорс сидит в хате. У порога присел боец, видимо ординарец.
— Эх, сейчас бы яблочков, — говорит Щорс.
— Будут яблочки, — грубовато отвечает ординарец и, лихо сдвинув набок фуражку, выходит из хаты.
Входят соратники и товарищи Щорса, идет беседа. В разгар ее ординарец возвращается и ставит перед Щорсом глубокую миску с яблоками. Щорс ест и угощает всех, миска мгновенно пустеет.
Замечание Д. сводилось к тому, что ординарец ведет себя вольно, не по-военному, отвечает не по уставу.
Месяца через полтора или два Довженко прислал на просмотр снятые им куски картины, отдельные эпизоды.
Была и эта сцена. Теперь она выглядела примерно так.
Щорс так же сидит в хате, ординарец на лавочке у порога, одет по форме, наготове.
— Хорошо бы достать яблочков, — произносит Щорс.
Ординарец вскакивает, вытягивается, берет под козырек.
— Есть достать яблочков, — гаркает он.
Щорс смотрит на него с удивлением.
— Чего тянешься, — улыбаясь, медленно говорит он. — Опусти руку, не в царской армии.
Бывший на просмотре Д. понял ответ Довженко. Да, в годы гражданской войны было так, из песни слова не выкинешь, историю нельзя модернизировать.
В готовый фильм эта сцена, насколько помню, вошла в прежнем варианте. Новый был и сделан только для ответа.
Много раз после того слышал я выступления Александра Петровича на собраниях киноработников до войны, в сценарной студии, в 1946–1948 годах, где обсуждались сценарии. Оратор он был необыкновенный. Он думал вслух, вовлекая слушателей в ход своих мыслей и рассуждений, говорил убежденно и страстно.
Последний раз я встретил Александра Петровича возле Центрального Дома литераторов. Я вышел из дверей на улицу Воровского, Довженко ходил возле ворот, задумчивый. Волосы его поседели, на лице прибавилось морщин, он был утомлен, и еще больше горечи скопилось в изгибе скорбного и упрямого рта. Мы поздоровались. Недавно вышел на экран его фильм о Мичурине. Я поздравил Александра Петровича с большим успехом картины, он не дослушал, махнул рукою:
— Если б вы знали, Федор Маркович, как много мне в нем испортили.
Из ворот вышла машина. Он ее и ожидал. Мы попрощались, он сел. Хлопнула дверца, и мимо меня проплыла его красивая седая голова.
Радость жизни
Ко времени Февральской революции 1917 года мне еще не было шестнадцати лет. Круг моего чтения составляли книги, увлекавшие подростков того времени, — Дюма и Конан Дойл, Стивенсон и Буссенар, Майн Рид и Жаколио, Вальтер Скотт и Джек Лондон и журнал «Природа и люди»… Кроме того, я читал, конечно, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Льва Толстого и других классиков, а также собрания сочинений — приложения к «Ниве», из них мне особенно нравился тогда Куприн.
Разумеется, я знал А. К. Толстого, его стихи, пьесы, роман «Князь Серебряный». А. Н. Толстой приложением к «Ниве» не выходил, с Густавом Эмаром не соперничал и моего внимания не привлек. Потом он жил за рубежом, в эмиграции, а я был комсомольцем и коммунистом, этим многое сказано. Да и к тому же не трудно вспомнить, что в те годы А. Н. Толстой в сущности еще не развернулся. Лучшие свои книги он написал уже после окончания гражданской войны… С этими книгами я, впрочем, познакомился позже, тем более что мало было у меня тогда времени для чтения. Но в 1928 году прочел я «Гадюку», и эта небольшая повесть, даже рассказ, захватила меня еще больше, чем «Голубые города». И я разыскал и прочел все, что только мог найти в библиотеках из книг Толстого, и уже после того не пропускал ничего им написанного.
Сегодняшний читатель, пожалуй, не поймет, почему «Гадюка» так сильно отозвалась в моем — и не только в моем — сознании. Чтобы понять это, надо вспомнить, как трудно восприняла немалая часть комсомольцев и даже партийцев переход от «военного коммунизма» к новой экономической политике. Еще вчера шла вооруженная борьба не на жизнь, а на смерть с белогвардейцами и интервентами, еще вчера всякий, кто чем-либо торговал, был враждебным элементом, кулаком, спекулянтом, мешочником, подрывающим Советское государство, еще вчера представлялось, что в ближайшие месяцы, если не дни и часы, свершится мировая революция… Но Ленин увидел изменение обстановки в мире и в стране и разработал гениальный план поворота от штурма к осаде, план новой экономической политики. Для многих и многих энтузиастов, пламенных голов, не владевших необходимыми знаниями и глубоким пониманием исторических событий, этот поворот явился потрясением. Как будто они бешено мчались на конях, занося над головами врагов сверкающие клинки, и вдруг наткнулись на неожиданное препятствие. На наших глазах как из-под земли появились лавочки и лавчонки, рынки и частные фабрички, кафе и кондитерские, появились нэпманы. И вчерашним конникам надо было учиться торговать, хозяйничать, руководить «командными высотами» — заводами, банками, учреждениями, предприятиями, чтобы обеспечить строительство социализма, не дать мелкобуржуазной стихии захлестнуть его. Все это нашло в те годы разнообразное отражение в нашей художественной литературе, появились и упадочнические произведения — стихи В. Александровского и В. Кириллова, романы, повести, изображающие возродившееся мещанство, дельцов-ловкачей и т. д. Об этом можно прочесть в книгах по истории нашей литературы, и я мог бы перечислить немало названий таких повестей и романов. Но, пожалуй, никто не изобразил с такой силой драматические переживания романтика, волна гражданской войны, столкнувшегося с нэповской стихией, как это сделал А. Н. Толстой в «Голубых городах» и «Гадюке». В сложной, богатой событиями судьбе Ольги Зотовой, оказавшейся после героического периода ее жизни в кишащей обывателями и мещанами коммунальной квартире, отразилось целое явление тогдашней общественной жизни. Она была одной из тех, кто не смог, не сумел перестроиться, перемениться. А такие были, хотя и в меньшинстве.

Многослойный автобиографический роман о трех женщинах, трех городах и одной семье. Рассказчица – писательница, решившая однажды подыскать определение той отторгнутости, которая преследовала ее на протяжении всей жизни и которую она давно приняла как норму. Рассказывая историю Риты, Салли и Катрин, она прослеживает, как секреты, ложь и табу переходят от одного поколения семьи к другому. Погружаясь в жизнь женщин предыдущих поколений в своей семье, Элизабет Осбринк пытается докопаться до корней своей отчужденности от людей, понять, почему и на нее давит тот же странный груз, что мешал жить и ее родным.
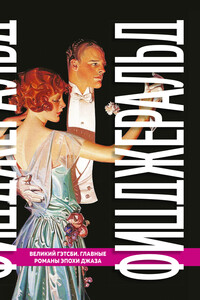
В книге представлены 4 главных романа: от ранних произведений «По эту сторону рая» и «Прекрасные и обреченные», своеобразных манифестов молодежи «века джаза», до поздних признанных шедевров – «Великий Гэтсби», «Ночь нежна». «По эту сторону рая». История Эмори Блейна, молодого и амбициозного американца, способного пойти на многое ради достижения своих целей, стала олицетворением «века джаза», его чаяний и разочарований. Как сказал сам Фицджеральд – «автор должен писать для молодежи своего поколения, для критиков следующего и для профессоров всех последующих». «Прекрасные и проклятые».

Читайте в одном томе: «Ловец на хлебном поле», «Девять рассказов», «Фрэнни и Зуи», «Потолок поднимайте, плотники. Симор. Вводный курс». Приоткрыть тайну Сэлинджера, понять истинную причину его исчезновения в зените славы помогут его знаменитые произведения, вошедшие в книгу.
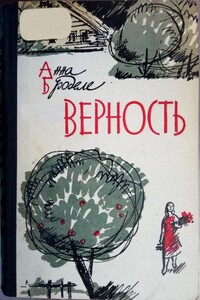
В 1960 году Анне Броделе, известной латышской писательнице, исполнилось пятьдесят лет. Ее творческий путь начался в буржуазной Латвии 30-х годов. Вышедшая в переводе на русский язык повесть «Марта» воспроизводит обстановку тех лет, рассказывает о жизненном пути девушки-работницы, которую поиски справедливости приводят в революционное подполье. У писательницы острое чувство современности. В ее произведениях — будь то стихи, пьесы, рассказы — всегда чувствуется присутствие автора, который активно вмешивается в жизнь, умеет разглядеть в ней главное, ищет и находит правильные ответы на вопросы, выдвинутые действительностью. В романе «Верность» писательница приводит нас в латышскую деревню после XX съезда КПСС, знакомит с мужественными, убежденными, страстными людьми.
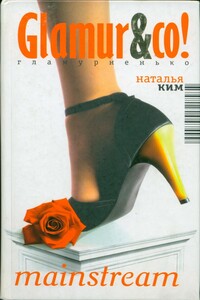
Что делать, если ты застала любимого мужчину в бане с проститутками? Пригласить в тот же номер мальчика по вызову. И посмотреть, как изменятся ваши отношения… Недавняя выпускница журфака Лиза Чайкина попала именно в такую ситуацию. Но не успела она вернуть свою первую школьную любовь, как в ее жизнь ворвался главный редактор популярной газеты. Стать очередной игрушкой опытного ловеласа или воспользоваться им? Соблазн велик, риск — тоже. И если любовь — игра, то все ли способы хороши, чтобы победить?