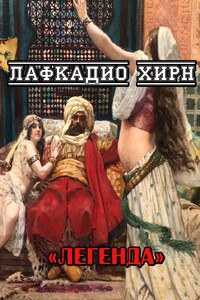Ивняк - [4]
Труднее всего выравнивать стенки. Хотелось с одного приема поддеть до самого дна, чтобы куски дерна были побольше. Стоя на краю канавы, не очень удобно выбрасывать его. Тянувшиеся повсюду корни ив портили стенку; она обваливалась, когда лопата выворачивала их. Иногда даже случалось, что какой-нибудь длинный тонкий корень срывал с нее дерн. Тогда у Апога загорались глаза и губы что-то злобно шептали.
Апог протянул бечеву и выровнял другую стенку. Выбросил со дна землю и на минуту присел на краю канавы. Но рассиживаться было некогда. Он напился и взялся за топор. Теперь надо было сначала вырубить кустарник.
Левая рука хватала густую верхушку, а правая рубила. Настоящих деревьев здесь не было — вся канава заросла серыми жилистыми кустами. Но редкий из них удавалось одолеть с одного удара. Корни обычно оказывались совсем не там, где можно было ожидать, топор попадал в траву, не перерубив спрятавшуюся в землю кривулину, а только глубже вгоняя ее, вырывая из левой руки верхушку куста и больно растягивая сухожилия под мышкой. От хрящеватой почвы и камней топор совсем затупился. Время от времени он позвякивал, и тогда Апог сердито вздыхал: «Эх!» Отрубив ветку, он осматривал топор. Ну вот, еще одна зазубрина! Все лезвие было в зазубринах, по нему смело можно было провести пальцем. Тут уж ничего не поделаешь. Топор не служил и полдня, сразу тупился о хрящ и камни. Приходилось рубить таким, какой есть. Колотить точно молотком, чтобы одолеть жилистые корни.
Гневно отброшенные рукой отрубленная ветка или кривой корень с шумом и шелестом летели по воздуху. Широкой полосой, местами целыми кучами, лежали кривые, скрюченные корни и извилистые, перепутавшиеся между собой ветки. В знойный день они удивительно быстро вяли. Из белых отрубов сочился сразу же засыхавший коричневатый сок, листья повисали и сворачивались. Горький запах увядания стоял над «островом». Возле расчищенных канав на паровом поле валялись кучи бурых, словно обгоревших веток.
Бух! бух! — падал тупой топор на прятавшиеся в траве и земле кривые корни. Каждый удар топора сопровождался выдохом. Легче, когда грудь подымается и опускается вместе с топором. Но работа все же была трудна, потому что каждая ветка, каждый корень извивался по-разному, и каждый из них надо было рубить по-особому. Апог то и дело должен был менять положение ног, наклон спины, поворот головы и каждый удар наносить иначе, в ином направлении и с иной силой — ни одно движение не походило на предыдущее. Эти ивы вытягивали у землекопа все жилы, работа дробилась на отдельные мелкие, по связанные между собою движения.
— Бух! — ударил топор и отскочил. В камень он не попал — это можно было определить на слух. Но левая рука, сжимавшая верхушку, сразу же почувствовала, что ветка не только не перерублена, но даже не согнулась. Может, попал зазубриной? Апог ударил еще раз внутренним, более острым углом. Бух… Ветка не надломилась и не согнулась. У Апога загорелись глаза, губы что-то злобно прошептали. И тогда посыпался удар за ударом. Левая рука ожесточенно дергала верхушку, чтобы ветка не гнулась, правая замахивалась и рубила. Раззадорившись, Апог забыл и про усталость. До этого рука с трудом заносила тяжелый топор, — он немного свешивался вниз и только на самом верху, стремительно подброшенный доведенной до плеча рукой, вздымался, чтобы с силой обрушиться на непослушный корень. Теперь же топор взлетал ровно, словно стал легче, и так же ровно опускался. Но ветка не поддавалась.
Апог сердито сплюнул и бросил топор. Вот напасть! Неужто не срубить. Поплевал на ладони и ухватился обеими руками. Хоть так ее вырвать! Уперся ногами в том месте, где должен быть корень. Ничего не вышло. Руки заскользили, ладони стали влажными, к ним пристали кусочки коры и листья, в обоих боках словно иглами закололо, дыханье в груди стеснилось, и ее так сдавило, что на мгновение у Апога потемнело в глазах, а ивовая ветка сидела в земле все так же крепко.
Не выпуская ветку из рук, Апог на минутку опустился на край канавы. Он тяжело дышал. Колотье в боках прошло, но под ложечкой словно кто-то нажимал тяжелым кулаком. Дышал он порывисто, и если бы не стиснул зубы, у него с каждым выдохом вырывался бы стон… Апог все это чувствовал и осознавал — боль слишком усилилась, нельзя было не думать о ней. Но его сердитый взгляд не отрывался от сжатой в руках, общипанной ивовой ветки, уходившей в траву. Она была толщиной в руку, вся в неровных морщинах, слабая, покорная на вид, и как невинная страдалица томилась в лапах землекопа. Невинная, разлученная с семьей ветка… Но Апог знал, с кем имеет дело. Она у него не первая, и все они на один лад. Полжизни он рубил, корчевал, истреблял ивы, а они вырастали вновь и вновь, еще более ветвистые, густые и упрямые. Разве не из-за них у него эта болезнь. Они теперь думают, что он уж до того старый, слабый и хворый, что больше ни на что не способен, что ему уже конец… что он уж не работник и не кормилец… Упрямиться вздумали, насмехаться над ним, над его болезнью и немощью!
Апог на минуту выпустил из рук ветвь. Она быстро и как будто радостно отпрянула к остальным. Только по смятой и поредевшей листве ее можно было отличить от других. Ну, постой пока, погоди!..
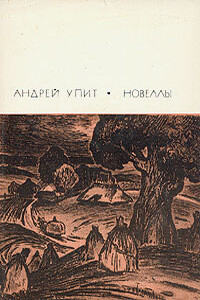
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
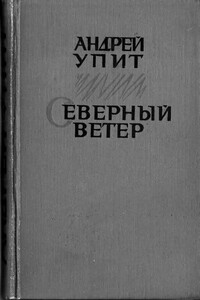
«Северный ветер» — третий, заключительный роман первоначально намечавшейся трилогии «Робежниеки». Впервые роман вышел в свет в 1921 году и вскоре стал одним из самых популярных произведений А. Упита. В 1925 году роман появился в Ленинграде, в русском переводе.Работать над этим романом А. Упит начал в 1918 году. Латвия тогда была оккупирована войсками кайзеровской Германии. Из-за трудных условий жизни писатель вскоре должен был прервать работу. Он продолжил роман только в 1920 году, когда вернулся в Латвию из Советского Союза и был заключен буржуазными властями в тюрьму.

Роман Андрея Упита «Земля зеленая» является крупнейшим вкладом в сокровищницу многонациональной советской литературы. Произведение недаром названо энциклопедией жизни латышского народа на рубеже XIX–XX веков. Это история борьбы латышского крестьянства за клочок «земли зеленой». Остро и беспощадно вскрывает автор классовые противоречия в латышской деревне, показывает процесс ее расслоения.Будучи большим мастером-реалистом, Упит глубоко и правдиво изобразил социальную среду, в которой жили и боролись его герои, ярко обрисовал их внешний и духовный облик.
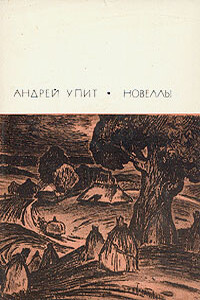
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
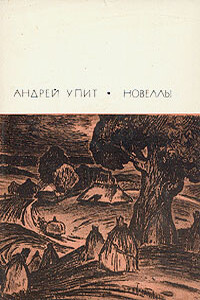
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
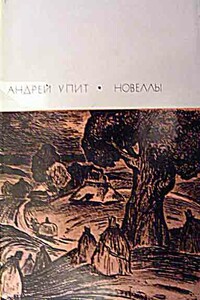
В сборник произведений известного латышского писателя Андрея Упита вошли новеллы — первые серьезные творческие достижения писателя.Перевод с латышского Т. Иллеш, Д. Глезера, Л. Блюмфельд, Н. Бать, Ю. Абызова, Н. Шевелева, А. Старостина.Вступительная статья Арвида Григулиса.Составление Юлия Ванага.Иллюстрации Гундики Васки.М., Художественная литература, 1970. - 704 с.(Библиотека всемирной литературы. Серия третья. Том 187.)OCR: sad369 (6.09.2011)
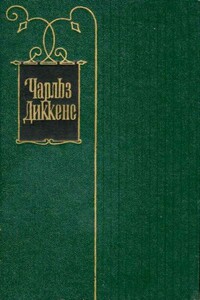
«Приключения Оливера Твиста» — самый знаменитый роман великого Диккенса. История мальчика, оказавшегося сиротой, вынужденного скитаться по мрачным трущобам Лондона. Перипетии судьбы маленького героя, многочисленные встречи на его пути и счастливый конец трудных и опасных приключений — все это вызывает неподдельный интерес у множества читателей всего мира. Роман впервые печатался с февраля 1837 по март 1839 года в новом журнале «Bentley's Miscellany» («Смесь Бентли»), редактором которого издатель Бентли пригласил Диккенса.
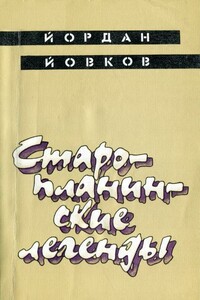
В книгу вошли лучшие рассказы замечательного мастера этого жанра Йордана Йовкова (1880—1937). Цикл «Старопланинские легенды», построенный на материале народных песен и преданий, воскрешает прошлое болгарского народа. Для всего творчества Йовкова характерно своеобразное переплетение трезвого реализма с романтической приподнятостью.
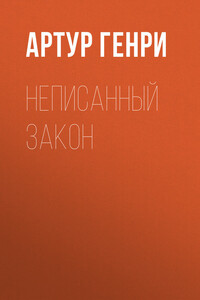
«Много лет тому назад в Нью-Йорке в одном из домов, расположенных на улице Ван Бюрен в районе между Томккинс авеню и Трууп авеню, проживал человек с прекрасной, нежной душой. Его уже нет здесь теперь. Воспоминание о нем неразрывно связано с одной трагедией и с бесчестием…».
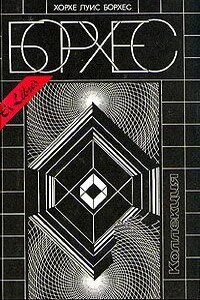
В сборник произведений выдающегося аргентинца Хорхе Луиса Борхеса включены избранные рассказы, стихотворения и эссе из различных книг, вышедших в свет на протяжении долгой жизни писателя.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.