Иван Украинский - [4]
— Лютуют паразиты, — сидя за столом с небогатой снедью и потчуя зятя, вел рассказ рабочий о притеснениях царских приспешников. — Задавили гнетом трудовой народ.
— Так и у нас в станице, — вставлял Иван свое слово. — Не дают роздыху каты.
— Ничего, Ванюша, — положив желанному гостю широкую ладонь на плечо, говорил хозяин немудрящей хатенки, — не век же так будет продолжаться. У нас в мастерских опять начали появляться большевистские листовки, люди пробуждаются от оцепенения. Про ленский расстрел слышал?
— Да, — отозвался Иван. — Дорого отольется та рабочая кровь царским палачам.
Худощавый, с потемневшим лицом от постоянного общения с металлом, еще не старый слесарь, придвинулся поближе к зятю и, понизив голос, произнес:
— Придет и на нашу улицу праздник. Верные есть приметы. После разгона в 1905 году Совета рабочих депутатов в Тихорецком поселке каратели надеялись, будто на том и всей крамоле конец. Слепцы! Им никогда не подавить народ. Наш местный большевик Михаил Меньшиков сумел уйти от преследования, долго скрывался, а потом выехал за границу и там, как говорят, у самого Ильича — Ленина науку проходит. Скоро возвернется, его здесь надежные люди поджидают. Тогда опять поселок поднимется на борьбу.
Двадцатидвухлетний сельский батрак набирался классового сознания и опыта не только от русского пролетария, породнившегося с ним и его семьей. Он общался со многими людьми в станице и поселке, кое‑что читал из запрещенной революционной литературы.
В большом и малом видел он несправедливости и по
роки жизни, социальное неравенство, сословную и национальную рознь, насаждаемые и поощряемые господствующими классами. Даже среди детей, школьников, студентов процветал тогда культ грубой силы, презрительного отношения к неимущим.
Однажды во время воскресного гостевания у агашиных родителей Иван и его молодая жена прогуливались по железнодорожному саду, служившему местом отдыха для всех тихоречан. В самом укромном тенистом уголке сада они хотели присесть на скамейку, поговорить о своих делах. Но там уже кто‑то сидел. Украинские подошли ближе и увидели, что на скамейке устроился паренек, ученик реального училища. Присмотрелась Агаша, а это — ее соседский мальчишка. Пригорюнился, едва слезу не пускает.
— Веня, — обратилась к нему Агаша, — ты чего это такой пасмурный?
Сама ненамного старше паренька, Агаша чувствовала теперь себя умудренной жизнью молодой женщиной, обязанной по — матерински воспринимать чужую беду.
— Да так, — неопределенно ответил мальчишка. — Настроение мне испортили.
— Кто и почему? — допытывалась Агаша.
Она с Иваном уже сидела на скамейке рядом с реалистом и ей во что бы то ни стало захотелось узнать, что же произошло с мальчиком.
Вениамин с родителями приехал в поселок месяцев шесть назад. До этого они жили где‑то не то в Ряжске, не то в Саранске. Отец — мелкий банковский служащий. Переезд был связан с плохим здоровьем его жены, матери Вениамина. Мальчик учился прежде в реальном училище, все силы приложили родители к тому, чтобы он продолжил учебу и на новом месте.
Но вот незадача — с первых же дней ему не стали давать проходу сынки тихорецких толстосумов, особенно из казачьего сословия. «Городовик», то есть «иногородний», «хамсел» и другие обидные клички так и неслись ему вслед. Несколько великовозрастных обалдуев пытались даже его побить. Затем преследование вроде бы прекратилось. По простоте душевной паренек похвалился новым соученикам о том, что он привез с собой почтовых голубей, умеющих выполнять его команды.
Отвечая теперь Агаше на вопросы, кто и как его обидел, Вениамин, сдерживая волнение, рассказал:
— Попросили у меня голубей двое из этих ребят. Посмотреть им захотелось. Я принес. А они схватили птиц и мне не отдали.
— Так ты пойди к учителю, — посоветовала Агаша, — пожалуйся и тебе голубей возвратят.
— Не возвратят, — удрученно сказал мальчик. — Их балбесы изжарили и съели.
— Во живодеры, — возмутился Иван, до этого не вступавший в беседу. — Но ты, хлопец, шибко не журись. Я когда учился в школе, куркулевы сыночки надо мной тоже немало поизнущались.
Украинский привлек к себе паренька и, успокаивая, закончил:
— Ну а с голубями, что ж теперь? Придет время, когда наши смирные голуби поразгоняют всю хищную стаю коршунов. Крепись, брат.
Украинский взял Агашу под руку и отправился к ее отцу и матери с тем, чтобы, оставив ее у родителей, самому подыскать подводу и засветло добраться до Тихорецкой станицы. Агаша была уже в тягости и работать, как в первое время, теперь не могла. Иван усердно трудился и за себя, и за нее вместе со своим отцом и младшим братом.
Братья не раз задавали родителям вопрос, почему так получилось, что оба они носят одно и то же имя. Мать Ефимья Анистратьевна обычно в обтекаемой, слегка иронической форме выражала свое недовольство священником, одинаково нарекшим старшего и младшего сыновей:
— Да то, хлопчики, наш сельский батюшка назвал вас по своему письменнику: Иван — первый, Иван — второй, как тех царей — монархов.
— Смеешься, мама, — улыбались сыновья.
В разговор вступал отец Митрофан Степанович. Тот вносил полную ясность:
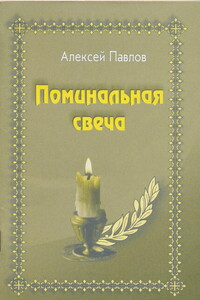
В настоящий сборник включена лишь незначительная часть очерковых и стихотворных публикаций автора за многие годы его штатной работы в журналистике, нештатного сотрудничества с фронтовой прессой в период Великой Отечественной войны и с редакциями газет и журналов в послевоенное время. В их основе — реальные события, люди, факты. На их полное представление понадобилось бы несколько томов.

В авторской документально-очерковой хронике в захватывающем изложении представлены драматические события в казачьей Черномории периода 1792–1800 гг. через судьбы людей, реально живших в названную эпоху.
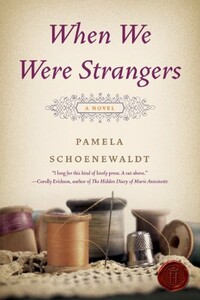
«Если ты покинешь родной дом, умрешь среди чужаков», — предупреждала мать Ирму Витале. Но после смерти матери всё труднее оставаться в родном доме: в нищей деревне бесприданнице невозможно выйти замуж и невозможно содержать себя собственным трудом. Ирма набирается духа и одна отправляется в далекое странствие — перебирается в Америку, чтобы жить в большом городе и шить нарядные платья для изящных дам. Знакомясь с чужой землей и новыми людьми, переживая невзгоды и достигая успеха, Ирма обнаруживает, что может дать миру больше, чем лишь свой талант обращаться с иголкой и ниткой. Вдохновляющая история о силе и решимости молодой итальянки, которая путешествует по миру в 1880-х годах, — дебютный роман писательницы.
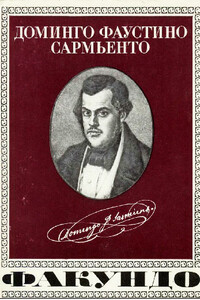
Жизнеописание Хуана Факундо Кироги — произведение смешанного жанра, все сошлось в нем — политика, философия, этнография, история, культурология и художественное начало, но не рядоположенное, а сплавленное в такое произведение, которое, по формальным признакам не являясь художественным творчеством, является таковым по сути, потому что оно дает нам то, чего мы ждем от искусства и что доступно только искусству,— образную полноту мира, образ действительности, который соединяет в это высшее единство все аспекты и планы книги, подобно тому как сплавляет реальная жизнь в единство все стороны бытия.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
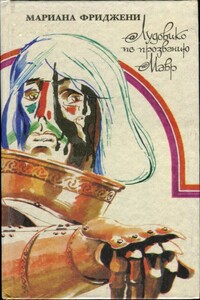
Действие исторического романа итальянской писательницы разворачивается во второй половине XV века. В центре книги образ герцога Миланского, одного из последних правителей выдающейся династии Сфорца. Рассказывая историю стремительного восхождения и столь же стремительного падения герцога Лудовико, писательница придерживается строгой историчности в изложении событий и в то же время облекает свое повествование в занимательно-беллетристическую форму.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В основу романов Владимира Ларионовича Якимова положен исторический материал, мало известный широкой публике. Роман «За рубежом и на Москве», публикуемый в данном томе, повествует об установлении царём Алексеем Михайловичем связей с зарубежными странами. С середины XVII века при дворе Тишайшего всё сильнее и смелее проявляется тяга к европейской культуре. Понимая необходимость выхода России из духовной изоляции, государь и его ближайшие сподвижники организуют ряд посольских экспедиций в страны Европы, прививают новшества на российской почве.