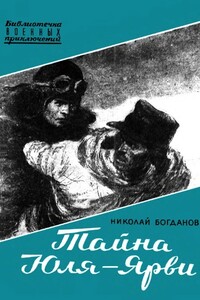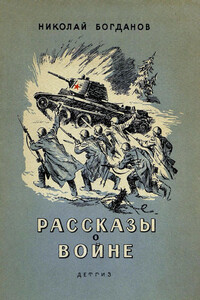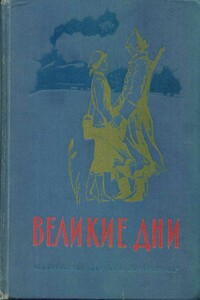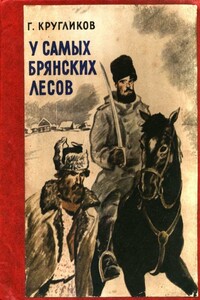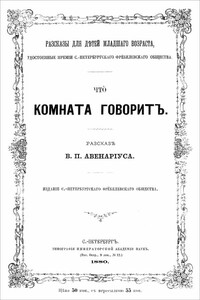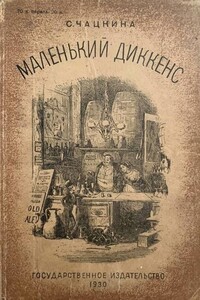Вслед за Николенко, по обязанности защищать командира, пошёл и его ведомый.
Увидел этот манёвр не только наш командир — тут же заметили его и фашисты.
Это были опытные лётчики. Держась в стороне, они высматривали удобный момент, чтобы ударить по отделившемуся, сбить зазевавшегося. И сразу, словно хищники, почуявшие лёгкую добычу, устремились из-за облаков на самолёты, уклонившиеся от зенитного огня. У кого нервы сдали, того легче бить!
Храбреца Николенко, по его поведению, фашисты приняли за труса. Как бы он возмутился, если бы знал! Но узнать ему не довелось. Наблюдая за огнём с земли, он просмотрел опасность с воздуха.
— Николенко, вас атакуют! — крикнул командир по радио.
Но было уже поздно, немцы открыли прицельную стрельбу. Пушечные залпы, как огненные дубины, обрушились на самолёт Николенко, круша и ломая его. Затем на самолёт ведомого.
И два краснозвёздных ястребка, один за другим, охваченные дымом и пламенем, посыпались на верхушки елей.
…А в это время возвратились восвояси фашистские истребители. Они явились всей эскадрой и густо пошли на посадку. Зенитки сразу замолкли. Всё небо покрылось машинами. Одни планировали на аэродром, другие, дожидаясь очереди, летали по кругу. А наши гонялись за ними, сбивая один за другим.
Подбитые валились и в лес, и на лётное поле. Тут костёр, там обломки. На них натыкались идущие на посадку. Капотировали. Разбивались. Два фашиста в панике столкнулись в воздухе. Иные бросились наутёк.
— Попались, которые кусались! — шутили потом участники замечательного побоища.
Удалось бы набить больше, если бы не несчастье с Николенко, ведь наши остались вшестером.
Да ещё пару пришлось выделить, чтобы связать боем фашистскую дежурную двойку, сбившую Николенко и его ведомого. Только четвёрке наших истребителей удалось действовать в полную силу, штурмуя аэродром и фрицев на посадке.
И попало же Николенко во время разбора боевого вылета вечером того же дня! Критиковали его жестоко, хотя и заочно…
А наутро его ведомого, молодого лётчика Иванова, выбросившегося с парашютом, опалённого, поцарапанного, вывезли из вражеского тыла партизаны. И сообщили, что второй лётчик сгорел вместе с самолётом.
Сняли шлемы лётчики, обнажили головы.
— Сообщить родителям Николенко, что сын их погиб смертью героя… — приказал командир. И добавил: — Тяжко будет отцу с матерью, а ведь сами виноваты, смелым воспитали его, да только недружным.
Война продолжалась. Много было ещё горячих схваток, тяжёлых утрат и славных подвигов. А командир никак не мог забыть, что случилось с Николенко. Принимая в полк молодых орлят, полковник всегда рассказывал эту поучительную историю. И темнел лицом. И некоторое время был сердит и неразговорчив. Так сильно разбаливалась в его командирском сердце рана, которую нанёс ему молодой лётчик своей бессмысленной гибелью.
Если нужно было поразить далёкую, еле видимую цель, никто не мог сделать это лучше молодого снайпера нашей роты — Евгения Карелина, а попросту — Жени.
Это он снял с одного выстрела «фрица с длинными глазами» — фашистского наблюдателя, который разглядывал Ленинград, устроившись на маковке заводской трубы. Фашист так и свалился в трубу, только стекла бинокля сверкнули…
Женя умел выбирать цель и днём и ночью. И позиции находил в самых неожиданных местах: то затаится в болоте среди кочек и снимет немецкого наблюдателя; то заберётся в печку сгоревшего дома, избитую снарядами до того, что она вот-вот рухнет, и выцелит оттуда офицера, вышедшего из блиндажа прогуляться по свежему воздуху.
— Здорово у тебя получается! — завидовали иные бойцы. А Карелин отвечал:
— По науке. Я' траекторию учитываю. Могу попасть даже в невидимого фрица.
И аккуратно протирал кусочком замши стекло оптического прицела. Винтовку он берёг и холил, как музыкант скрипку. Носил её в чехле. Когда Женя выходил на снайперскую охоту, его охранял автоматчик. Берегли у нас знатного снайпера.
Напарника ему дали надёжного, уроженца Сибири, по фамилии Прошин.
Командир сказал ему:
— Сам погибай, а снайпера сохраняй!
— Будьте надёжны! — ответил Прошин.
И охранял на совесть. При выходе снайпера первым выползал вперёд и оберегал выбранную Карелиным позицию, а при уходе прикрывал с тыла.
Однажды он сказал Карелину:
— Молодой ты, Женя, а хитрый: сколько прикончил фрицев, а сам жив остаёшься. Наверное, жизнь свою очень любишь.
— Люблю, — не смутившись, ответил Карелин. — Жизнь мне очень нужна. Длинная-длинная, до седых волос…
— Это зачем же такая?
— Я должен за свою жизнь вывести под Ленинградом грушу-дюшес «карелинку» и виноград «северный карелинский». Друзьям детства обещал, когда ещё пионером был.
— Ага, — догадался Прошин, — так это ты для того у командира отпуска зарабатываешь, чтобы с лопатой в Летнем саду повозиться? Знаю. Наши солдаты видели тебя у мраморных фигур.
— Нет, это я не для того. Чтобы спасти от обстрела мраморные статуи, ленинградцы решили их закопать в землю. А мы их опавшими листьями укрывали, чтобы землёй не поцарапать.
— Ишь ты, какой заботливый! — сказал Прошин, по-отечески обняв Женю за плечи. — Ничего, не бывать врагу в городе. По его улицам Ленин ходил… Здесь нам каждый камень дорог.