Иван Мележ - [10]
Вначале Мележ вроде бы поддался традиции — показывать Полесье несколько экзотически, этнографически. Да и трудно было сразу обойти колею, которую прокладывали и Куприн и Колас. Но очень скоро другая интонация делается у Мележа господствующей.
Да, это край своеобразный, необычный, я, автор «Людей на болоте», даже (видите!) делаю акцент на непривычности всего, даже парадоксальности (люди, не видевшие моря, а между тем живут... на «островах»!), но теперь, когда я тебя, читатель, повел за своим рассказом, давай смотреть пристальнее и всерьез. Край как край и люди как люди. А что тебе говорили или читал ты, что полешуки будто бы сами себя не вполне людьми считали («полешуки мы — не человеки!»), так это с чужих слов, так про них думали или попадались, как на крючок, на хитрую издевку полешуцким же мужичкам. Себя они, медлительные, дюжие работяги-полешуки, не только «человеками» считали, но еще какими первосортными и сами спрашивали: «А за Гомелем (это значит не на Полесье) люди есть?
— Есть. Только дробненькие».
Одним словом, как сказано у Мележа — неожиданно просто: «Людям тут нужно было жить, и они жили».
Жизнь эта — прежде всего обычная, человеческая.
Со всеми страстями человеческими, которые и везде, с высокой духовностью в поисках лучшей дороги в жизни, с любовью и ненавистью, с радостями и бедами людскими.
Сам из этих мест, Мележ мог и, конечно, должен был использовать это свое преимущество перед Куприным и Коласом — показать обычность необычного, повседневность и привычность, настоящую глубину, человеческую, психологическую, того, что читателю и литературе традиционно могло видеться как этнографическая экзотика или же романтика.
Мележ не упускает возможности показать Полесье со всеми его красками и особенностями так, как это может лишь житель этого края и увидеть и показать: со всей правдой быта, языка, обычаев. Не этнографическая статика и декоративность, а живая, движущаяся, переливающаяся жизнь...
В языке романа все это выразилось особенно великолепно и новаторски (в диалогах прежде всего и в массовых сценах). Очень он в контексте всей мележевской вещи — этот полешуцкий диалект в голосах героев. Эти по-детски гудящие, как бы на пробу произносимые: «мамо», «було», «буу», «тетко», «дядько», «кеб», «ето...» Но весь контекст произведения сразу настраивает читателя на восприятие и языка полешуцкого всерьез, как полновесного проявления реальной жизни реальных людей. Никакой игры полешуцкими словами, даже намека на это — а ведь так, казалось бы, соблазнительно! Нет, для автора это живой язык его памяти, детства, отца и матери язык, и ему играть с ним было бы бестактно. Но вот что удивительно, что и читатель тоже и как-то сразу заражается этим простым и естественным отношением к диалекту мележевских героев. Наверно, оттого, что сразу ощутил и поверил в полноту и значительность духовной жизни этих людей, и потому язык этот, диалект (а точнее, элементы его, использованные смело, но с отличным чувством меры), не кажется читателю чем-то таким, на что все время обращаешь внимание. Как не останавливалось бы его внимание на посконной полешуцкой одежде Ганны, если бы увидел и оценил ее красоту в реальной полесской деревне... И ее «буу», «дядько» звучало бы (и звучит в романе) по-особенному естественно, певуче, трогательно наивно и уже привычно для нас: без этой краски многое в романе потеряло бы в своей полноте и первозданности. Исчезни она, и с этим уверенным, как все живое, в «праве быть», но таким ненавязчивым диалектом исчез бы из романа какой-то свет, какая-то очень человечная подсветка всего происходящего. (Что невольно ощущаешь в переводах, даже самых удачных, бережных, где все-таки ослабляется это: не сам диалект (его стараются сохранять), а «сцепленность», «совместимость», стилистическое взаимодействие его с остальным языковым фоном — этого труднее добиться.)
Так возвращаются заново к развилке дорог, уже зная, что будет (было) впереди и как вернее избрать свой путь. Это — возвращение художника, в чем-то к самому себе. Понявшему, что писательская «вездеходность» — лишь мнимое достоинство и бесполезная роскошь.
И это возврат прежде всего поэтический, но особенной поэзией просвечена память писателя, проходящая заново путь народной жизни,— поэзией реальности, правды, которая обретена вновь и заново. Поэзия в одежке трудной, грубой, неустроенной жизни, но именно народной, которой на планете жили и живут миллионы. У Мележа — глубина и серьезность взгляда на народную жизнь, без всякого любования патриархальщиной, стариной. Но и без запоздало «молодняковского» — мы не такие, мы вон какие! Этакое было еще объяснимо, понятно в 20-е годы, когда казалось, что все ответы уже найдены и «у нас, у молодых» неожиданностей не будет.
Даже к тому, что ушло, должно было уйти, автор «Полесской хроники» относится всерьез. Что, конечно, не исключает юмора. Но это юмор понимающий, «свой» — полешука над полешуком. Народный, одним словом. Тот, без которого сам народ не обходится никогда, хотя литература порой теряет его. По причине будто бы особенно уважительного отношения к народной жизни или «проблемам времени», хотя такая жертва вряд ли требуется. И вряд ли она кому-то шли чему-то на пользу. А том более — самой литературе.
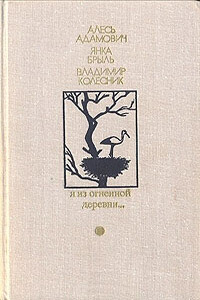
Из общего количества 9200 белорусских деревень, сожжённых гитлеровцами за годы Великой Отечественной войны, 4885 было уничтожено карателями. Полностью, со всеми жителями, убито 627 деревень, с частью населения — 4258.Осуществлялся расистский замысел истребления славянских народов — «Генеральный план „Ост“». «Если у меня спросят, — вещал фюрер фашистских каннибалов, — что я подразумеваю, говоря об уничтожении населения, я отвечу, что имею в виду уничтожение целых расовых единиц».Более 370 тысяч активных партизан, объединенных в 1255 отрядов, 70 тысяч подпольщиков — таков был ответ белорусского народа на расчеты «теоретиков» и «практиков» фашизма, ответ на то, что белорусы, мол, «наиболее безобидные» из всех славян… Полумиллионную армию фашистских убийц поглотила гневная земля Советской Белоруссии.

Видя развал многонациональной страны, слушая нацистские вопли «своих» подонков и расистов, переживая, сопереживая с другими, Алесь Адамович вспомнил реальную историю белорусской девочки и молодого немецкого солдата — из минувшей большой войны, из времен фашистского озверения целых стран и континентов…
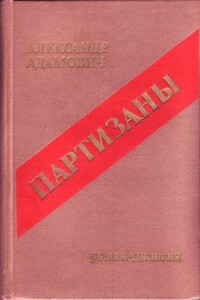
«…А тут германец этот. Старик столько перемен всяких видел, что и новую беду не считал непоправимой. Ну пришел немец, побудет, а потом его выгонят. Так всегда было. На это русская армия есть. Но молодым не терпится. Старик мало видит, но много понимает. Не хотят старику говорить, ну и ладно. Но ему молодых жалко. Ему уж все равно, а молодым бы жить да жить, когда вся эта каша перекипит. А теперь вот им надо в лес бежать, спасаться. А какое там спасение? На муки, на смерть идут.Навстречу идет Владик, фельдшер. Он тоже молодой, ихний.– Куда это вы, дедушка?Полнясь жалостью ко внукам, страхом за них, с тоской думая о неуютном морозном лесе, старик проговорил в отчаянии:– Ды гэта ж мы, Владичек, у партизаны идем…».

В книгу Алеся Адамовича вошли два произведения — «Хатынская повесть» и «Каратели», написанные на документальном материале. «Каратели» — художественно-публицистическое повествование о звериной сущности философии фашизма. В центре событий — кровавые действия батальона гитлеровского карателя Дерливангера на территории временно оккупированной Белоруссии.
![Пути в незнаемое [Писатели рассказывают о науке]](/storage/book-covers/31/318351eec2b394cdc28b6d2c9da3f3ce57feba5d.jpg)
Очередной 21-й выпуск сборника «Пути в незнаемое» содержит очерки, рассказывающие о современном поиске в разных сферах научной деятельности — экономике, космических исследованиях, физике, океанографии, землеведении, медицине, археологии, истории, литературоведении, астрономии. Авторы очерков — профессиональные писатели, занимающиеся наукой, и профессиональные ученые, ставшие писателями. (Издано в 1988 г.)

Предисловие к сборнику сочинений Н.С. Трубецкого, одного из видных деятелей евразийства начала XX века, посвященная разбору наследия этого историко-филосовского течения.

Очерки Бальзака сопутствуют всем главным его произведениям. Они создаются параллельно романам, повестям и рассказам, составившим «Человеческую комедию».В очерках Бальзак продолжает предъявлять высокие требования к человеку и обществу, критикуя людей буржуазного общества — аристократов, буржуа, министров правительства, рантье и т.д.

Кир Булычев и Эдуард Геворкян! Сергей Лукьяненко и Владимир Васильев!И многие, многие другие — писатели уже известные и писатели-дебютанты — предлагают вашему вниманию повести и рассказы.Космические приключения и альтернативная история, изысканные литературные игры и искрометный юмор — этот сборник так же многогранен, как и сама фантастика!«Танцы на снегу» Сергея Лукьяненко, «Путешествие к Северному пределу» Эдуарда Геворкяна, «Проснуться на Селентине» Владимира Васильева — вы еще не читали эти произведения? Прочтите!

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

