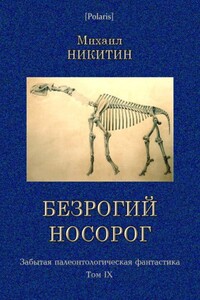Павел машинально освободился, привстал.
— Не ходи, не ходи, Павлушка! — давясь всхлипом в шубной меховине, молила Лена, не сознавая, о чем просит его, от чего удерживает в такую минуту. — Не ходи, не ходи, милый Пав…
Звонкая пощечина у ларька ошеломила всех. Валерка качнулся.
— Т-ты… так?
— Я же тебе сказала, чтобы ты больше никогда… — строгий, начальственный голосок Нади вдруг оборвался на полуслове. Валерка зажал ей рот, на помощь ему вывернулся Веник, затрещали пуговицы знакомой шубейки-ментика… Надя закричала падая.
Павел так поддел Веньку ногой, что тот сел и начал шумно глотать воздух. Схватив Валерку за шиворот, он успел трижды влепить окостеневший кулак в мягкое, серое, испуганное лицо. Брезгливо отшвырнул через скамью.
— Рви! Мотай отсюда, с-сопля! — рявкнул он и, оглянувшись, двинул еще раз привставшего Веника.
Дружки попятились, побежали, ножей у них, как видно, не было.
Надя отряхивалась, стонала.
— Н-ну… куда же ты пришла, Надька? — дрожа всем телом, сгорая от ненависти и стыда, спросил Павел.
Голос рвался. В голосе было страдание — за нее и за себя.
— Куда же тебя занесло, Надя?
Она перестала ныть, запахнула шубейку с оборванными петлями. Сглатывая слезы, разом взяла себя в руки.
— Я… к тебе шла, Павлушка! К тебе! Я знала, где ты и с кем, все знала!
Павел проглотил ругательство.
Это было что-то невероятное, сверхнаглое. Ее бесстыдство прямо-таки напугало Павла. Он вспомнил вдруг Эру Фоминичну, когда она просила спасти ее Веника. Та же униженность с виду и та же бесцеремонность с людьми, убеждение, что и на этот раз все сойдет с рук.
— Ты же не любишь ее! — закричала Надя. — Зачем она липнет! Ты же мой, мой, навсегда!
— Врешь… Все ты врешь! — убито сказал он, слыша и не слыша эти последние слова. — Всю жизнь врешь в погоне за красивой жизнью! Эх… Надя, Надя!
Вполне вероятно, что шла она к н е м у. Но что же менялось от этого?
— Павлик, милый! Я виновата, но шла я к тебе, честное слово! И прости! Я ведь все знала!
Что она знала? То, что его не выгоняют с треском, а совсем даже наоборот?
— Ты же все затоптала в грязь…
Он знал, что она лжет. Он тоже в с е знал. Но она молила его, унижалась, навсегда признавая его превосходство, и, может быть, навсегда менялась в эти мгновения… для него.
И голос у Павла дрогнул:
— Ты же все за-топ-та-ла…
Странная неуверенность сковала его. Странная, нелепая, мелкая надежда шевельнулась в душе. Он заколебался.
А может, и верно? А что, если сейчас она кричит сердцем?
— Павлик, ну…
Нет! Жалкий, обидный, какой-то не ее голос. Она даже сама не справляется с этой игрой.
Он хотел ей поверить, но от этого так вдруг возненавидел и себя и ее, что мог и в самом деле ударить Надю. Убить за то, что она сделала с их тайной.
Позабыв о Лене, он повернулся и, стиснув зубы, пошел от ларьков и от старой лохматой ели по хрусткой песчаной дорожке вверх, в сторону Дома культуры.
Сутуло пошел, припадая то на одну, то на другую ногу, опустив низко лобастую голову. И никакая сила не заставила бы его оглянуться.
— Па-а-в-лик!..
Надя побежала следом, тяжело дыша, окликая его.
На скамье, под темным еловым шатром, глухо, навзрыд заплакала Лена.