Ита Гайне - [16]
При виде двух незнакомых женщин с детьми на руках, пившая чай, не выпуская из рук блюдечка, вместо приветствия, сказала:
– Видели вы такое несчастье? В первый раз случается, чтобы у меня ребенок умер. В первый раз, – как я чай пью. Теперь же сижу и думаю – почему он умер? Ведь я его лучше родного любила. Детей у меня нет, – вот эти, что видите, сестры моей, а муж мой чернорабочий. Я, не как другие, у которых есть дети, и которые сами работают. Я живу хозяйкой, скромно, тихо, всегда вскармливаю двух детей и смотрю за ними, как за глазами.
– Отчего же все-таки он умер? – с улыбкой спросила Гитель, знавшая наизусть подобного рода самовосхваления.
– Почему он умер? Сядьте, вам трудно стоять. Почему же другой у меня не умер? Вы задаете странные вопросы. Какая мне выгода от его смерти? Пусть бы жил. Возьму же я другого, какая тут для меня разница?
– Это так, – произнесла озадаченная Гитель, не найдясь, что ответить.
– Я всегда это говорю им. Зачем приставать ко мне, когда ребенок умер? Мне еще труднее каждый раз возиться с новым, которого нужно приучать к себе. Месяца три тому назад у меня умерла девочка…
– Как умерла? – вдруг охладела к ней Ита. – Вы ведь сказали, что у вас только этот умер.
– Разве я сказала? Не может быть. Значит, я ошиблась. Три месяца тому назад у меня умерла девочка. Мать ее, получавшая двенадцать рублей, тоже задала мне этот вопрос и даже не другими словами. Ведь я с ней чуть не подралась. Хоть бы с жаром или со слезами спросила меня. Нет, чтобы уколоть только. Ей так же жалко было этой девочки, как вот этим детям. Наоборот, теперь ей можно будет давать больше денег своему любовнику на шарлатанство.
– Сколько вы берете в месяц? – спросила Гитель, – Покажите мне другого.
– Вот это другое дело. Нужно говорить живые слова, а не задавать глупых вопросов. Сейчас покажу вам.
Она встала и пошла в конец комнаты к задней стенке. Там она распахнула кусок красной материи, спускавшейся с потолка до пола и скрывавшей кровать, и из темноты явственно вдруг раздалось чавканье. Когда Ита и Гитель ближе присмотрелись, то увидели в кровати «что-то» неподвижное, державшее в руке тряпку, которую оно, по-видимому, и жевало.
– Это ребенок? – спросила Ита. – Отчего же вы его держите в темноте? Ведь он ослепнуть может. Что это он ест?
– Меня не нужно учить, где держат ребенка. Где держу, там ему и хорошо. Поверьте, он бы не молчал. Кормлю же его солдатским хлебом. Я всех детей так вырастила. Беру мякоть этого хлеба, обсыпаю его толченым сахаром, связываю тряпкой и обливаю теплой водой. Ребенок всегда имеет, что поесть, и целый день ведет себя, как голубь. Поверьте, если солдаты здоровеют от этого хлеба, то детям он в тысячу раз полезнее.
– Ну, а молоко? – вмешалась Гитель.
– Даю понемногу и молока, – подхватила Мирель, – но уверяю вас, даю против совести, из глупого предрассудка. Что такое молоко, скажите мне? Я вам отвечу. Молоко – это белая вода. Люди глупы, и я глупа. Хотите белую воду, – пожалуйста – вот белая вода. Но все-таки знаю, что солдатский хлеб – спасение для детей. Смотрите, как она сосет: ведь у нее в губах ужасная сила. Она из вашей кожи кровь высосет, а вы не высосете. Хотите ее посмотреть?
Она живо вытащила его, пригладила, оправила, и перед обеими женщинами предстал форменный уродец, заморышек, в котором едва было семь-восемь фунтов веса. Девочка походила лицом на угрюмую, печальную старушечку, а общий вид ее напоминал карикатуру из линий; ручки – две очень длинных линии, и тело – линия посредине. Веки ее, скованные засохшим гноем, не раскрывались, и видно было, как она ворочает глазными яблоками, обеспокоенная светом дня.
– Нравится она вам? – спросила Мирель. – Правда, хорошенькая, хотя и худенькая. Вот глаза ее меня беспокоят. На днях пойду с ней к одной женщине, которая хорошо глаза лечит. Девочке и мать не нужна. Ей всего шесть месяцев, а ведет себя, как взрослая. Я ее очень люблю. Подождите, я ей раскрою глаза, и вы увидите, какая она хорошенькая.
Она быстро вытерла тряпочкой глаза у девочки и, смочив языком веки, ловко пролезла им вовнутрь и раскрыла.
– Красива, правда? – произнесла Мирель, обращаясь к Гитель. – А теперь протанцуй немножко, пусть гости увидят какая ты веселенькая.
Она подбросила ее, но бедный заморышек, согнувшись вдвое, припал к ее плечу и застонал.
– Хочет спать, – объяснила Мирель, – бедная, как она меня любит. Не буду мучить тебя, нет, нет.
Положив ребенка и сунув ему тряпку, она вернулась, говоря:
– И меня еще спрашивают, почему ребенок умирает, да, осмеливаются спрашивать, хотя за мои заботы и любовь платят всего шесть рублей в месяц. Разве я не ангел после этого?
Гитель уже готова была согласиться, как вошли две кормилицы, с которыми они утром встретились. Те удивились, что нашли их здесь, и разговор временно перешел на другие темы. Мирель, почуяв спрос, сейчас же переменила фронт и договорилась до того, что решительно, без уступок, запросила восемь рублей в месяц.
– Зимою, – философствовала она на замечание Гитель, – другие разговоры. Шесть рублей беру летом. Но зимою даже у родной дочери не взяла бы меньше восьми рублей. Разве вы хотите, чтобы мой муж, который с таким трудом зарабатывает, делился с вашими детьми своими грошами? Нужно ведь быть зверем, чтобы этого желать.
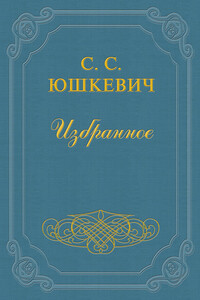
«С утра начался дождь, и напрасно я умолял небо сжалиться над нами. Тучи были толстые, свинцовые, рыхлые, и не могли не пролиться. Ветра не было. В детской, несмотря на утро, держалась темнота. Углы казались синими от теней, и в синеве этой ползали и слабо перелетали больные мухи. Коля с палочкой в руке, похожий на волшебника, стоял подле стенной карты, изукрашенной по краям моими рисунками, и говорил однообразным голосом…».

«Сон – существо таинственное и внемерное, с длинным пятнистым хвостом и с мягкими белыми лапами. Он налег всей своей бестелесностью на Савельева и задушил его. И Савельеву было хорошо, пока он спал…».
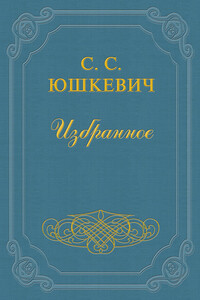
«Теперь наступила нелепость, бестолковость… Какой-то вихрь и страсть! Всё в восторге, как будто я мчался к чему-то прекрасному, страшно желанному, и хотел продлить путь, чтобы дольше упиться наслаждением, я как во сне делал всё неважное, что от меня требовали, и истинно жил лишь мыслью об Алёше. По целым часам я разговаривал с Колей о Настеньке с таким жаром, будто и в самом деле любил её, – может быть и любил: разве я понимал, что со мной происходит?».
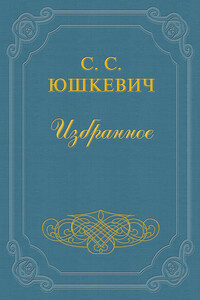
«Странный Мальчик медленно повернул голову, будто она была теперь так тяжела, что не поддавалась его усилиям. Глаза были полузакрыты. Что-то блаженное неземное лежало в его улыбке…».
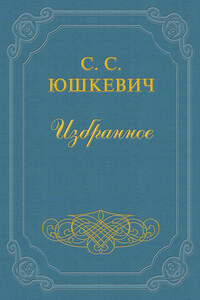
«Что-то новое, никогда неизведанное, переживал я в это время. Странная грусть, неясный страх волновали мою душу; ночью мне снились дурные сны, – а днём, на горе, уединившись, я плакал подолгу. Вечера холодные и неуютные, с уродливыми тенями, были невыносимы и давили, как кошмар. Какие-то долгие разговоры доносились из столовой, где сидели отец, мать, бабушка, и голоса их казались чужими; бесшумно, как призрак, ступала Маша, и звуки от её босых ног по полу казались тайной и пугали…».
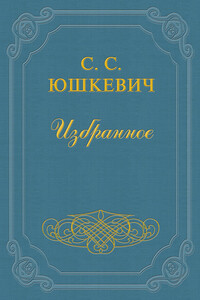
«И вдруг, словно мир провалился на глазах Малинина. Он дико закричал. Из-за угла стремительно вылетел грузовик-автомобиль и, как косой, срезал Марью Павловну. В колесе мелькнул зонтик.Показались оголенные ноги. Они быстро и некрасиво задергались и легли в строгой неподвижности. Камни окрасились кровью…».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.