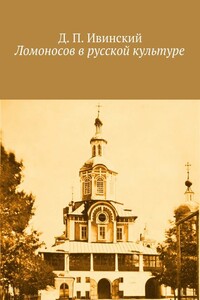История русской литературы - [21]
Итак, незаконченный «Болеслав» (текст, который одновременно существовал и не сушествовал) важен для нас, в частности и прежде всего, как несостоявшийся опыт автокоррекции литературной биографии Муравьева и даже как несостоявший опыт коррекции современной ему литературной ситуации. И этот несостоявшийся опыт не просто включается в ряд состоявшихся, но именно открывает его.
В указанной смысловой перспективе приобретает свое значение топоровское видение литературных связей. Существенными признаются не только те литературные отношения и влияния, которые подтверждаются документально и даже не только типологические проекции, но и (подчас и прежде всего) те отношения и влияния, которые «устанавливаются» чисто гипотетически и которые никогда не обладали статусом различимого и отрефлексированного культурного факта.
В этой связи трудно пройти мимо книги о Пушкине и Голдсмите76. Кажется, перед нами почти уникальный случай: автор книги открывает ее подробным объяснением неадекватности замысла материалу:
Насколько своевременно и даже оправдано выдвижение этой темы? Голдсмит, естественно, не мог знать Пушкина (как и тех писателей в России, которые так или иначе знали английского писателя – читали его, переводили или хотя бы просто упоминали его имя). Сам же Пушкин не переводил Голдсмита, не оставил высказываний о нем и даже, насколько известно, не упоминал его имени в своих произведениях, хотя английской литературой он, бесспорно, интересовался – следил за нею, оставил ряд оригинальных суждений о довольно широком круге писателей <…>. И вообще Голдсмит и Пушкин, принадлежа разным эпохам, разным культурным традициям, разным литературным направлениям, не обнаруживают в своих сочинениях сколько-нибудь очевидных точек соприкосновения (по крайней мере, в целом и на первый взгляд), которые, собственно, и дают основание для постановки подобных тем. <…> Подобную ситуацию, если не оправдывает, то объясняет и то, что нам вообще неизвестно фактически, читал ли Пушкин Голдсмита (между прочим, произведения английского писателя отсутствовали и среди книг библиотеки Пушкина).
Итак, читателям разъяснено, что оснований для сопоставления сочинений Пушкина и Голдсмита у автора нет. И тут же следует:
И, тем не менее, вопрос о литературных связях Пушкина с Голдсмитом должен быть поставлен. Но решения (или хотя бы приближения к нему) этого вопроса, – едва ли, впрочем, окончательного и даже просто достаточно полного, – следует искать в «невидимой», так сказать (или «маловидимой» и во всяком случае «неофициальной», чаще всего избегаемой литературоведением) части литературы, точнее, литературного обихода, в той окололитературной или «литературно-бытовой» ситуации, где Пушкин мог впервые услышать о Голдсмите, познакомиться с особенностями его творчества и отдельными его произведениями и заинтересоваться ими. Наличие такой ситуации и, следовательно, того, что Пушкин знал и даже – сильнее и определеннее – не мог не знать о Голдсмите, вне всякого сомнения. Но для исследователя творчества Пушкина важнее другое и как раз менее ясное, – отразилось ли это знакомство на самом творчестве русского писателя и может ли оно, хотя бы в малой степени, быть прослежено по текстам пушкинских произведений, прежде всего художественных. И вот здесь, в этой более ответственной и более специальной области, есть место для определенных сомнений и даже возражений. Сама постановка темы литературных связей Пушкина с Голдсмитом имеет смысл лишь в том случае, если именно в этой области, при всей неясности ее очертаний и ее реального содержания, будут найдены некоторые конкретные факты, которые только и образуют основу для формулирования их объясняющих гипотез.
Как видим, здесь фактически обнаруживается проницаемость границы между текстом и литературным бытом; мало того, изучение литературного быта, слабая проясненность которого Топорова не смущает, мыслится как допустимая форма реконструкции межтекстовых взаимодействий. Но такая реконструкция в принципе не может ограничиться ни сферой «пушкиноведения», ни даже сферой «литературы», и недоказанная частная возможность литературного взаимодействия включается в смысловое поле истории культуры; собственно, сам факт этой включенности и мыслится как несомненное и подлинное свидетельство значительности несуществующей темы:
Вопрос о литературных связях Пушкина с Голдсмитом не может быть введен в замкнутые рамки пушкиноведения или исключительно личных вкусов и пристрастий Пушкина. Поэтому названный вопрос составляет лишь часть общей темы усвоения наследия английского писателя русской литературой и – шире – русской культурой и требует для своего решения обозначения голдсмитовского контекста в русской литературе на протяжении примерно полувека после первого (по сути дела) знакомства с Голдсмитом в России77.
В сложном единстве текста и поэта, текста и литературной культуры, истории и мифа и реализует себя идея «сверхтекста» в ее «последнем» измерении, идея единого поля культуры с его способностью «откликаться» на сверхмалые «зондирующие» обращения к нему. Подобная позиция, проведенная последовательно, предопределила особый тип изложения. На самом поверхностном уровне восприятия поэтика прозы Топорова характеризуется непредсказуемой свободой многочисленных тематических переходов, отступлений и экскурсов; последние могут выноситься в обычно многочисленные «Приложения», а могут размещаться в «основном» разделе. Непредсказуемость эта имеет несколько «уровней» или измерений: по горизонтали (контекст), по вертикали (претекст), по степени уменьшения/увеличения масштаба «изображения». В принципе, «прием» сводится именно к созданию текста, любой элемент которого, начиная с уровня морфемы и заканчивая уровнем общей композиции, в любой момент может стать объектом самых разнообразных культурных проекций, параллелей, сопоставлений. Такой текст имитирует объективную неисчерпаемость культурного пространства и в этом именно качестве не может мыслиться как хотя бы потенциально завершенный. Идентичность этого текста обеспечивается только его неслиянностью и нераздельностью с автором, с его культурным опытом: у них одна мера и одна парадигма, основной признак которой – ее устремленность к границам этого опыта, которые могут ассоциироваться и с запредельным, сверхреальным. Вне отнесенности к этой сфере сколько-нибудь адекватное функционирование текста, конечно, невозможно, а это означает, что он способен жить только «на границе» науки и художественной литературы.

В первой части книги «Дедюхино» рассказывается о жителях Никольщины, одного из районов исчезнувшего в середине XX века рабочего поселка. Адресована широкому кругу читателей.

В последние годы почти все публикации, посвященные Максиму Горькому, касаются политических аспектов его биографии. Некоторые решения, принятые писателем в последние годы его жизни: поддержка сталинской культурной политики или оправдание лагерей, которые он считал местом исправления для преступников, – радикальным образом повлияли на оценку его творчества. Для того чтобы понять причины неоднозначных решений, принятых писателем в конце жизни, необходимо еще раз рассмотреть его политическую биографию – от первых революционных кружков и участия в революции 1905 года до создания Каприйской школы.

Книга «Школа штурмующих небо» — это документальный очерк о пятидесятилетнем пути Ейского военного училища. Ее страницы прежде всего посвящены младшему поколению воинов-авиаторов и всем тем, кто любит небо. В ней рассказывается о том, как военные летные кадры совершенствуют свое мастерство, готовятся с достоинством и честью защищать любимую Родину, завоевания Великого Октября.

Автор книги Герой Советского Союза, заслуженный мастер спорта СССР Евгений Николаевич Андреев рассказывает о рабочих буднях испытателей парашютов. Вместе с автором читатель «совершит» немало разнообразных прыжков с парашютом, не раз окажется в сложных ситуациях.

Из этой книги вы узнаете о главных событиях из жизни К. Э. Циолковского, о его юности и начале научной работы, о его преподавании в школе.

Со времен Макиавелли образ политика в сознании общества ассоциируется с лицемерием, жестокостью и беспринципностью в борьбе за власть и ее сохранение. Пример Вацлава Гавела доказывает, что авторитетным политиком способен быть человек иного типа – интеллектуал, проповедующий нравственное сопротивление злу и «жизнь в правде». Писатель и драматург, Гавел стал лидером бескровной революции, последним президентом Чехословакии и первым независимой Чехии. Следуя формуле своего героя «Нет жизни вне истории и истории вне жизни», Иван Беляев написал биографию Гавела, каждое событие в жизни которого вплетено в культурный и политический контекст всего XX столетия.