История прозы в описаниях Земли - [8]
Город кажется заброшенным лабиринтом, в котором улицы не обладают постоянными углами наклона, потому что их наклон зависит от упорства ходьбы – чем выше над уровнем океана, тем более поход в магазин напоминает восхождение на Гималаи, к тому же поднимающийся никуда не поднимается, просто эта пешеходная скала дрейфует то в согласии, то в противоречии с движением ног. Мне потребовалась одна книга, взятая с собой в переезд, я стал перебирать окружающие предметы и далеко не сразу поймал себя на том, что, оказывается, разыскиваю книгу среди консервных банок и упаковок с макаронными изделиями на полках индийского магазина за углом. Около минуты, таким образом, продолжалось наблюдение за своим «персонажем» как бы сквозь зелёное бутылочное стекло, в котором можно разобрать даже шрифт на задней стороне этикетки. Покупать еду с доставкой на крыльцо по карману далеко не каждому, зато в мгновение равенства между продуктовым магазином и библиотечным стеллажом можно уловить затылочную иронию соответствий, которая и сообщает этим высланным на задворки параферналиям некую анархическую связность, измерение сегодняшнего дня. Повседневные мерки времени исчерпываются переменой состояний – перетеканием джетлага в респираторные симптомы и обратно, будто за один ранний утренний подъём с ментального счёта списывается какая-нибудь потребность: например, узнавать новости (зачем, если можно выглянуть в окно – и там сплошной туман). Объективная реальность замкнутого сознания? Но такие наблюдения можно провести в любом полушарии, во всяком городе, где придерживаются условий: не выходить из дома, насколько позволяют продуктовые запасы; не спасаться бегством, а продолжать скрупулёзное описание. И вот это бесконечное (какой сейчас год?) сидение дома вообще перестаёт быть нахождением где-либо, помещённостью в замкнутую ячейку, якобы не связанную с другими, сколь угодно гипотетическими, местами – взять хотя бы асфальтовое побережье из «Естественной истории» и отыскать его на теперешнем календаре. Чем больше усилий приходится затрачивать на сражение гигиены с мелеющим банковским аккаунтом, на сквозняк из-под двери вечером, от которого, или не от него, проистекает жжение в носоглотке, тем труднее концентрировать внимание на строчках перед глазами. Кошмар чтения заключается в том, что необходимость сосредоточиться на прямом смысле читаемого в его непосредственных выражениях всегда рискует превзойти буквальное наполнение текста. Время подобного чтения – не астрономическое, не время сна (или воспоминаний о снах) и даже не время тех двух близнецов, один из которых, как утверждается, стоял на земле крепче второго. Это время лакун, зыбучих песков, которое чурается взаимообусловленности и соподчинения, не отказываясь, правда, от линейного чередования событий и логики доступных на ощупь фактов, чтобы в зазорах между ними волей-неволей накапливался свободный вакуум «тёмных веков». Отложив Гальфрида Монмутского, я убрал в комнате свет, чтобы высунуться в окно. Из бледно-зелёного тумана с жестяным шуршанием выкатилась супермаркетовская тележка, со всех сторон обвешанная бурыми полиэтиленовыми свёртками, гроздьями пластиковых бутылок, матерчатыми сумками и шубами. Владелец тележки выехал на середину перекрёстка двух совершенно пустых улиц и произвёл сокрушительный вопль.
С распоясавшимися койотами на задних дворах, где изолянты жарят барбекю в узком семейном кругу, на крышах придомовых гаражей и у фонтанов делового сектора, этот город скорее напоминает зоопарк без клеток – когда слышишь хлопок двери внизу, решаешь о себе, что тоже пора выходить на улицу, в липнущий дождь, под ветер, неважно, только бы перемещаться, сделав вид, к примеру, что ищешь аптеку. С холмов город представляется клондайком, аппендиксом Калифорнии амазонок, известной по рыцарскому роману об Амадисе Галльском, произведением в смешанной технике с бархатистой палитрой склонов по краям залива и фиолетовой во время закатов пылью у подножий, с горными львами и регулярной планировкой Фостер-Сити, напоминающего солипсическую голливудскую симуляцию, с Оклендским мостом, ныряющим в дебри зеркальных высоток, и девяностолетними ящичками австралийских трамваев, с Островом Сокровищ (автор одноимённой книги жил рядом) и башенными часами в порту. Под воздействием городской атмосферы пишущий принимает дозу обманчивой уверенности в будущем тексте, тактильно-ольфакторный росчерк его грядущей компоновки; он останавливается на берегу, миновав чугунное изваяние Махатмы Ганди у паромного вокзала, и галлюцинирует наплывами эфемерных абзацев (или даже просто лежит и наблюдает за светом на потолке, проникающим в комнату через окно, из города). Когда пристрастие к чтению превращается в патологическую зависимость, обычно рекомендуют «спуститься на землю», но ведь известно также, что необходимо отличать симптомы от самой болезни, а врач, впервые выписывающий средство от новоявленной заразы, так же отличается от заражённого, как переписчик анонимной повести – от её читателя. Томас Мэлори, например, ошибочно читал французские первоисточники, путался в героях, сливая нескольких в одного, преувеличивал или кое-что преуменьшал, был зациклен на археологии рыцарских идеалов, ономастике мечей, переодеваниях Ланселота, альбиносах, девственниках, мудрых отшельниках, ошмётках мозгов, двух рыцарях в одной постели, злокозненных феях, ладьях, носимых по морю без ветрил, и всём таком прочем – но могут ли его «ошибки» считаться таковыми, если авторство возможно лишь в силу чтения «первоисточников», а письмо синонимично изоляции в смахивающем на каморку Голема тюремном закутке без дверей и окон: только чужой текст и собственные инструменты письма? Уж лучше перевернуть шахматную доску и сделать ход на обратной стороне. Пульсирующее однообразие сумеречной тишины вперемешку с побочным тоном сдавленного ворчанья, доносящегося из глубин китайского ресторана по ту сторону фанерных переборок, из прачечного оборудования на первом этаже, где в нормальное время принимаются только монеты (а теперь – только карты), а по соседству лавка растворителей и половых вёдер потрескивает вентиляторами, секущими безлюдный воздух. Действие концентрируется в пределах единственной комнаты, тюремной камеры Мэлори или Поло, заплесневелых перекрытий Алексеевского равелина, – комнаты, где я сижу с блокнотом и ручкой, держа перед глазами раскрытую книгу с примятым уголком страницы, которую давно уже не могу перевернуть, поскольку античные тексты путаются в голове с ячеистыми средневековыми бреднями «Римских деяний», где два дурака вынимают друг другу глаза, соревнуясь во врачевании, а изо рта у рыцаря выскакивает ласка, хватает глаза дураков и убегает обратно в рот.
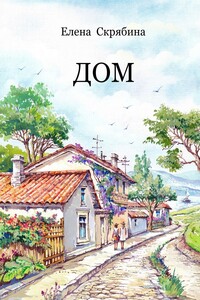
Автор много лет исследовала судьбы и творчество крымских поэтов первой половины ХХ века. Отдельный пласт — это очерки о крымском периоде жизни Марины Цветаевой. Рассказы Е. Скрябиной во многом биографичны, посвящены крымским путешествиям и встречам. Первая книга автора «Дорогами Киммерии» вышла в 2001 году в Феодосии (Издательский дом «Коктебель») и включала в себя ранние рассказы, очерки о крымских писателях и ученых. Иллюстрировали сборник петербургские художники Оксана Хейлик и Сергей Ломако.

В каждом произведении цикла — история катарсиса и любви. Вы найдёте ответы на вопросы о смысле жизни, секретах счастья, гармонии в отношениях между мужчиной и женщиной. Умение героев быть выше конфликтов, приобретать позитивный опыт, решая сложные задачи судьбы, — альтернатива насилию на страницах современной прозы. Причём читателю даётся возможность из поглотителя сюжетов стать соучастником перемен к лучшему: «Начни менять мир с самого себя!». Это первая книга в концепции оптимализма.

Перед вами книга человека, которому есть что сказать. Она написана моряком, потому — о возвращении. Мужчиной, потому — о женщинах. Современником — о людях, среди людей. Человеком, знающим цену каждому часу, прожитому на земле и на море. Значит — вдвойне. Он обладает талантом писать достоверно и зримо, просто и трогательно. Поэтому читатель становится участником событий. Перо автора заряжает энергией, хочется понять и искать тот исток, который питает человеческую душу.

Когда в Южной Дакоте происходит кровавая резня индейских племен, трехлетняя Эмили остается без матери. Путешествующий английский фотограф забирает сиротку с собой, чтобы воспитывать ее в своем особняке в Йоркшире. Девочка растет, ходит в школу, учится читать. Вся деревня полнится слухами и вопросами: откуда на самом деле взялась Эмили и какого она происхождения? Фотограф вынужден идти на уловки и дарит уже выросшей девушке неожиданный подарок — велосипед. Вскоре вылазки в отдаленные уголки приводят Эмили к открытию тайны, которая поделит всю деревню пополам.

Генерал-лейтенант Александр Александрович Боровский зачитал приказ командующего Добровольческой армии генерала от инфантерии Лавра Георгиевича Корнилова, который гласил, что прапорщик де Боде украл петуха, то есть совершил акт мародёрства, прапорщика отдать под суд, суду разобраться с данным делом и сурово наказать виновного, о выполнении — доложить.
