История прозы в описаниях Земли - [10]
Если долго лежать в темноте, привыкая к жёлтой светодиодной разбавке, скупой, сочащейся из окна, начинаешь подозревать, что гипертрофией зрительного начала (как будто одни глаза остались) обязан неподвижности своего тела. Несколько лет назад подобное было в книге Данилова, целиком построенной на этом эффекте, – только тогда, когда он сидел неподвижно в разных городах мира и записывал всё, что происходило вокруг, ещё можно было свободно перемещаться, эффект неподвижного наблюдателя выступал произвольным формальным ограничением, введённым по желанию автора. Напиши всё как привык, только левой рукой вниз головой. Получилось отнюдь не плохо, но в любом случае эта аналогия «битая», как и большинство аналогий из ближайшего прошлого… Речь ведь не о том, как выгоднее оформить визуальный материал, а о зрительной депривации, вызванной комнатным заключением, как в «Угловом окне», где некий пользующийся известностью писатель утратил возможность писать, рука не держит перо и, хуже всего, мысли разбегаются: evagatio mentis. Наиболее скрупулёзное описание этого болезненного феномена дано в раннем Средневековье преподобным Нилом Синайским в наставительном сочинении «О восьми злых духах», где преподобный пишет: Взгляд человека, погружённого в уныние, с одержимостью покоится на окне, и силами фантазии он воображает образ того, кто зайдёт его навестить. При малейшем скрипе двери он вскакивает на ноги. Он слышит голос, бросается к окну и выглядывает на улицу и всё же не спускается вниз, но возвращается и садится на своё место, в оцепенении и как будто смятении. Даже читая, он беспокойно прерывается и уже через минуту проваливается в сон. Даже вытирая лицо рукой, он вытягивает пальцы, а отведя взгляд с книги, сосредоточивает его на стене. Вот он снова смотрит на книгу, прочитывает ещё несколько строк, начиная бубнить окончания каждого встречающегося ему слова; и в это время он забивает себе голову праздными подсчётами, прикидывает число страниц и листов переплёта, он начинает ненавидеть буквы и прекрасные миниатюры, светящиеся перед его глазами, пока наконец он не закрывает книгу и не решает воспользоваться ею в качестве подпорки для головы, забываясь в коротком и поверхностном сне, от которого его будит чувство лишения и голода, который ему необходимо утолить. В этом состоянии короткого и поверхностного сна человеку начинает казаться, что он уставился в глубь шершавой пустыни, в брикет пыльного воздуха, по которому изредка пробегает близорукий пучок света, будто начальные вспышки грозы. Этот пейзаж не может быть беспредельным, и где-то с краю в пустынный воздух, должно быть, врывается морской ветер, тогда как на противоположной стороне грезится одинокое жилище, которое выступает чем-то чуждым, посторонним этому месту: муха на коже, дым из-под воды. Человеку мерещится не что иное, как обшарпанный жилой прицеп, или трейлер, припаркованный посреди пепельно-сухого Ничто, где не заметно ни подъездной колеи, ни следов костра, ни тропы к дверце трейлера, ни проводов или блока автономного электропитания, ни бочек с отходами, ни каких-либо других признаков упорядоченной жизнедеятельности. Бесконечно нагреваясь, железные стенки пульсируют на солнце, которое не садится и не восходит, а только реверберирует в небе. И когда солнечный свет пробивается сквозь окно трейлера, густо замаранное дорожной пылью, сухими водорослями, глиной, копотью и паутиной, из внутренней темноты выступают предметы обстановки: кожаный диван с просиженной посередине дырой до пола, приотворённая дверца холодильника, в котором не уцелело ни единой пивной банки, гора вздувшихся, частично полопавшихся консервов, сгрудившихся на полу, и, наконец, приземистый круглый стол, где свалены коробки из-под пиццы в масляных пятнах и какие-нибудь вспученные от влаги порножурналы, среди которых затерялось карманное издание «Последнего человека» Мэри Шелли.
Моя улица проходит поперёк своего рода долины, образованной двумя холмами, и соединяет вершины этих холмов, так что, если подолгу стоять на «дне», глядя вверх, обрывки тумана кажутся козырьком, прикрывающим лобную часть восточного холма, с которого на голову смотрящему валится холодная пена. Когда ветра нет, туман кучкуется на дне чаши. Кое-где улица выглядит так, будто её обитатели обчитались шванков о Тиле Уленшпигеле – лучше светить фонариком под ноги, когда ступаешь в темноте. Я увидел в окно двух египетских фараонов и решил, что это футбольные болельщики, забыв о том, что в этой стране играют в иной футбол; затем там появилась женщина с резиновыми перепонками на ногах и дыхательной трубкой во рту, и в голове у меня щёлкнуло: амазонка, как в «Эспландиане», – но для чего же ей трубка? Я вспомнил одного человека, который сидел в механическом кресле на дне уличной долины и не мог сдвинуться – только шевелил челюстью с густым мычанием, пока из-под его коляски бежала полноводная струя, стекая с тротуара на дорогу; разумеется, помочь ему никто не мог и, кроме чужака, то есть меня, никто его даже не видел. Впереди пульсирует оранжевая пробоина (просвет в облаках? забыл погасить лампочку?), но, если отнять одеяло от лица, остаётся всё та же темнота. В комнату проникает рыбный запах, я заматываю голову одеялом, вороша рукой по тумбочке в поисках полотенца. Всё вроде бы просто, и надо только зажечь свет, но что-то вечно мешает принять наиболее сподручные меры – или же причина в том, что никакого запаха нет, чем плотнее прижимаешь к одеялу нос, тем тоньше воздушный фильтр? По ощущениям влажность процентов девяносто семь – мокрый воздух из окна тоже пахнет морскими продуктами, там начинается другой мир, состоящий из бежевых туч, силуэтов домов, образов, бесконечных образов, за которые хватаешься, как бездомный за ручку магазинной тележки, которая дребезжит на стыках тротуарных плит, пока из неё вываливаются кульки, одноразовые маски, трубки от распылителей, вощёные рисовые коробки… Можно вообразить, услышав это дребезжание, что стоишь у полки в супермаркете и сквозь запотевшие (из-за маски) стёкла очков рассматриваешь поредевший ассортимент, будто надеешься приобрести здесь самого себя. Счастливый час, выгодная покупка. Расстановка объектов на полках обладает эстетической притягательностью, и кое-что незамедлительно врежется в память. Вот мексиканские тортильи за два девяносто девять (никогда не любил их резкий запах), где-то рядом стоит хумус за шесть девяносто девять и юкатанский гуакамоле по пять девяносто девять, соус «Господин Халапеньо» выделяется благодаря названию, американское национальное кушанье – макароны с сыром – продаётся по три пятьдесят, наклейка гласит: «Безоговорочное доверие с 1950 года!» У некоторых банок встречаются прорези в этикетках – иллюминаторы, из которых выглядывают тунцы или какие-нибудь стручки. Американский торт огромен, как Долина смерти, и не отличается от неё по вкусовым достоинствам. Многие наименования из-за дефицита, спровоцированного страхами и ажиотажем, отпускаются по одной штуке в одни руки, а некоторые уже раскуплены – вместо них только липкие лужицы с пылью. Ленивый сквознячок стелется по полу, накапливает силу в рассыпанной крупе, подхватывает остатки съестного и уносит, высасывает через брешь в потолке последнюю еду заодно с холодильными шкафами, половыми вёдрами на колёсиках, кассами самообслуживания, чёрными фартуками персонала и последними покупателями.

Роман Юлии Краковской поднимает самые актуальные темы сегодняшней общественной дискуссии – темы абьюза и манипуляции. Оказавшись в чужой стране, с новой семьей и на новой работе, героиня книги, кажется, может рассчитывать на поддержку самых близких людей – любимого мужа и лучшей подруги. Но именно эти люди начинают искать у нее слабые места… Содержит нецензурную брань.
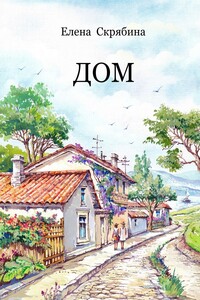
Автор много лет исследовала судьбы и творчество крымских поэтов первой половины ХХ века. Отдельный пласт — это очерки о крымском периоде жизни Марины Цветаевой. Рассказы Е. Скрябиной во многом биографичны, посвящены крымским путешествиям и встречам. Первая книга автора «Дорогами Киммерии» вышла в 2001 году в Феодосии (Издательский дом «Коктебель») и включала в себя ранние рассказы, очерки о крымских писателях и ученых. Иллюстрировали сборник петербургские художники Оксана Хейлик и Сергей Ломако.

В каждом произведении цикла — история катарсиса и любви. Вы найдёте ответы на вопросы о смысле жизни, секретах счастья, гармонии в отношениях между мужчиной и женщиной. Умение героев быть выше конфликтов, приобретать позитивный опыт, решая сложные задачи судьбы, — альтернатива насилию на страницах современной прозы. Причём читателю даётся возможность из поглотителя сюжетов стать соучастником перемен к лучшему: «Начни менять мир с самого себя!». Это первая книга в концепции оптимализма.

Перед вами книга человека, которому есть что сказать. Она написана моряком, потому — о возвращении. Мужчиной, потому — о женщинах. Современником — о людях, среди людей. Человеком, знающим цену каждому часу, прожитому на земле и на море. Значит — вдвойне. Он обладает талантом писать достоверно и зримо, просто и трогательно. Поэтому читатель становится участником событий. Перо автора заряжает энергией, хочется понять и искать тот исток, который питает человеческую душу.

Когда в Южной Дакоте происходит кровавая резня индейских племен, трехлетняя Эмили остается без матери. Путешествующий английский фотограф забирает сиротку с собой, чтобы воспитывать ее в своем особняке в Йоркшире. Девочка растет, ходит в школу, учится читать. Вся деревня полнится слухами и вопросами: откуда на самом деле взялась Эмили и какого она происхождения? Фотограф вынужден идти на уловки и дарит уже выросшей девушке неожиданный подарок — велосипед. Вскоре вылазки в отдаленные уголки приводят Эмили к открытию тайны, которая поделит всю деревню пополам.

Генерал-лейтенант Александр Александрович Боровский зачитал приказ командующего Добровольческой армии генерала от инфантерии Лавра Георгиевича Корнилова, который гласил, что прапорщик де Боде украл петуха, то есть совершил акт мародёрства, прапорщика отдать под суд, суду разобраться с данным делом и сурово наказать виновного, о выполнении — доложить.