История прозы в описаниях Земли - [28]
Вообще-то книга По называлась The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket, а «Повесть о приключениях…» – это переводческое ноу-хау. К Богданову частности путешествия Пима возвращают в четырнадцатой главе, когда рассказ уроженца Нантакета перерастает в энциклопедическое описание островов в южных морях, расщепляясь на осязаемые частицы координат и почв, прогорклой воды и пингвиньих колоний, антарктических портуланов, гидрографической поэзии, колониальной бюрократии и снежных шапок… И это затем, чтобы без мистических пассов перейти к фантастике как таковой, как если бы не существовало ничего более загадочного и отупляюще странного, запредельного в своей бесчеловечности, чем плоско-голая эмпирика, первобытные разводы на земле, животный факт. Таким образом, авантюрно-психологический сюжет дробится на скопления небольших географических обстоятельств и рассеивается ледяной пыльцой по воде, а стоический рассказ главного героя, его narrative, проходит эту метаморфозу невредимым. Ну и какое же сегодня число? – Пим сомневался в своём чувстве календаря. Чтобы не подниматься из укрытия в трюме, он беззвучно прислушивался, как будто осваивал линию жизни на ладони, воздух весь давно вышел – а сам он всё никак не мог выбраться, разве что трое суток худо-бедно спать (глава IV, курсив автора). Таким и представляется обыденное время: клубок билетов в один конец, который прилепился своим хвостом к штанине, лонгборду, бамперу и шелестит на бесконечном гортанном выдохе, напоминающем борозду канатного трамвая. Некоторые принимаются анализировать небольшие события наподобие тех, которые волей-неволей скапливаются в мозгах аса навигации по звёздам, запертого ради собственного же блага в просторном деревянном ящике. Небольшие события рельсовых путей Индии Купчинской в ранней атмосфере, дальним видимым концом идущих в уже другом ареале города, в коричневом ламповом тростнике и огородных заставах новоприбывших горожан. Небольшие события подогреваются аллергическим настольно-кухонным теплом, от которого тетрадь общая подхватила бурые пятна разбавки и кипятка, царапины от ржавых скрепок и автографы заваркой. Мало кому польстит накопившаяся на серверах информация – неосторожный импульс, сообщение, запах, всё украдено, только общая тетрадь гетерогенного и смутного наполнения остаётся лежать в помещении на столе. Чифир можно пить с планом или просто потягивать в старой кухне перед окном, пока не высунется из рыхлых астигматических далей автобус или электричка; телом Пима распоряжается не дьявол противоречия, а что-нибудь ненавязчиво очевидное: в главе девятой возбуждённый мозг повествователя, как он утверждает, ловит себя на «идее движения» – галлюциногенной кодировке движущейся материи кораблей, экипажей, птиц, всадников, мельниц, хороводов и воздушных шаров, – пока его онемевшее тело прикреплено тугой верёвкой к раздолбанному брашпилю. Bye-bye, Grampus. Как бы то ни было, читательский, критический и, в конце концов, авторский неуспех романа о Пиме был предрешён и неотвратим. Казавшееся классическим, эталонным равновесие между фабульными задачами и поэтологической аксиоматикой дробится и рушится в открытый океан знаков – подобно тому, как рассказы о событиях путешествий исчезли со старых географических карт, этих средневековых плоских романов, под натиском эмпирического универсализма ренессансной геодезии. Как говорил автор «Уолдена», встань лицом к факту, и ты почувствуешь, как он проходит через сердце и рассекает костный мозг.
Стоит вернуться в американский мир, в тот мир, который не блуждает теперь поодаль, где невозможно заблудиться и улицы не в цветущих прожилках, а в спальниках и коробках для задниц и тел. Климат будущего висит у самой земли тем запахом, который не перепутать. В стороне сверкающие на плоском солнце медицинские шалаши, рядами льётся очередь из ждущих неизвестно чего, ждущих радиоактивного снега, китайских коробочек с рисом, засохшей капусты, щуплых наркотических собак и тех, кто никогда не ждёт (наоборот, это их ждут), – живые существа, которых не найдёшь вдалеке от сердцевины эпоса. Символика на этих лицах идентична колыханию под Бартока с подрезанными венами. Имеется старая парковка с занавешенным трейлером, из коего никто не покажется на челночный свет, потому что изнутри ничто не отличается от своего внешнего облика, как бы начертанного поверх библейской взвеси на откидной дверце автомобильного жилья. Этот пыльный облик был слишком близок выздоравливающему, чтобы он мог классифицировать его флору как сторонний наблюдатель, но всё же улица Роз отличается от улицы Сикоморов не меньше (верно сказать, «точно так же»), чем плавкий алюминий внутри тесного корпуса, говорящего с пассажирами по-испански или по-китайски, – от пустой и нехарактеризуемо белой комнаты, где стены, потолок и пол можно распознать только по тому, где и как приходится расположить это не такое уж и своё тело. Если взглянуть на глобус, Северная Америка куцым ручейком стремится в Южную, как подстреленный полиэтиленовый желудок, чьё основание гнётся неосмотрительно обратно, на северо-запад, как бы вверх по течению… По мере приближения из турбулентной высоты к не менее турбулентной ветреной земле, к местному миру изнурительно прямого солнечного освещения, эти пустыри и жилые районы неслись далеко от глаз, в то же время становясь всё крупнее, как будто, оставаясь в зоне индивидуальной интенции, ничто не увеличивается, а только улетает из виду, собственно, именно в этот момент под желудком копошится ускользнувшее из всех книг, сбежавшее от экстазов и теорий, ироничное переживание начала, оптический узел, мир в разрезе, которого, естественно, больше нет. Внизу, у обочины, бывший хорёк заслоняет тельцем дорогу очередной воде, на краю в ожидании нового владельца покосился стеллаж, на его мокрых полках – бокалы с дождевой водой, можно отпить, подобрать с земли тонированную щепку, один дайм, приобщиться к мелкодисперсному приливу. Так, как будто любое существенное дело имеет место только вдалеке от центра, куда и всматриваться нет надежды, и Богданов, и всё тот же Пим с его колористической патетикой восприняли этот статус мира и, замкнув последний длинным абзацем, отправились буквоедами-землемерами куда-то в сторону, обочиной, по отметинам ближних расстояний и срезанных троп, как будто они умели прочесть общую ситуацию по круговращению тумана и крою ветра – нужен ли противительный союз, делать ли обходной манёвр или достаточно подремать в эпицентре. Осколочной заброшенности здесь не меньше, чем на поверхности небесных тел, из вкладыша защитной одежды радиосвязь талдычит «осмотрись», «повремени», как будто хочет увести в звуковой рельеф с клёкотом травы, ворчаньем лампового газа в тропосфере и липкой болтовнёй в черепной коробке. Но есть всё-таки одно предупреждение, которое оба усвоили на сто баллов: не надо взращивать сакрального ореола вокруг всех этих возвышенных интуиций, которые в конечном итоге ничего не определяют – ни в письме, ни в патогенезе. Может быть, это так. Впрочем, в черновой текст (чтобы выкинуть не жалко) добавлена следующая пометка: это как на карте, где нужного пункта вечно не найти, однако косвенные детали между прочим указывают…
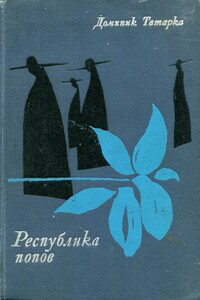
Доминик Татарка принадлежит к числу видных прозаиков социалистической Чехословакии. Роман «Республика попов», вышедший в 1948 году и выдержавший несколько изданий в Чехословакии и за ее рубежами, занимает ключевое положение в его творчестве. Роман в основе своей автобиографичен. В жизненном опыте главного героя, молодого учителя гимназии Томаша Менкины, отчетливо угадывается опыт самого Татарки. Подобно Томашу, он тоже был преподавателем-словесником «в маленьком провинциальном городке с двадцатью тысячаси жителей».

Сначала мы живем. Затем мы умираем. А что потом, неужели все по новой? А что, если у нас не одна попытка прожить жизнь, а десять тысяч? Десять тысяч попыток, чтобы понять, как же на самом деле жить правильно, постичь мудрость и стать совершенством. У Майло уже было 9995 шансов, и осталось всего пять, чтобы заслужить свое место в бесконечности вселенной. Но все, чего хочет Майло, – навсегда упасть в объятия Смерти (соблазнительной и длинноволосой). Или Сюзи, как он ее называет. Представляете, Смерть является причиной для жизни? И у Майло получится добиться своего, если он разгадает великую космическую головоломку.
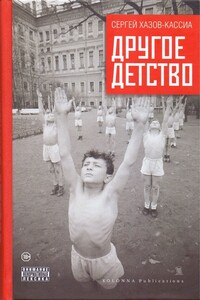
ДРУГОЕ ДЕТСТВО — роман о гомосексуальном подростке, взрослеющем в условиях непонимания близких, одиночества и невозможности поделиться с кем бы то ни было своими переживаниями. Мы наблюдаем за формированием его характера, начиная с восьмилетнего возраста и заканчивая выпускным классом. Трудности взаимоотношений с матерью и друзьями, первая любовь — обычные подростковые проблемы осложняются его непохожестью на других. Ему придется многим пожертвовать, прежде чем получится вырваться из узкого ленинградского социума к другой жизни, в которой есть надежда на понимание.

В подборке рассказов в журнале "Иностранная литература" популяризатор математики Мартин Гарднер, известный также как автор фантастических рассказов о профессоре Сляпенарском, предстает мастером короткой реалистической прозы, пронизанной тонким юмором и гуманизмом.
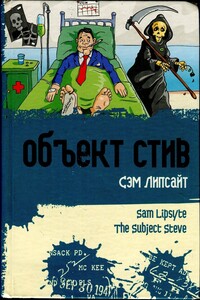
…Я не помню, что там были за хорошие новости. А вот плохие оказались действительно плохими. Я умирал от чего-то — от этого еще никто и никогда не умирал. Я умирал от чего-то абсолютно, фантастически нового…Совершенно обычный постмодернистский гражданин Стив (имя вымышленное) — бывший муж, несостоятельный отец и автор бессмертного лозунга «Как тебе понравилось завтра?» — может умирать от скуки. Такова реакция на информационный век. Гуру-садист Центра Внеконфессионального Восстановления и Искупления считает иначе.

Сана Валиулина родилась в Таллинне (1964), закончила МГУ, с 1989 года живет в Амстердаме. Автор книг на голландском – автобиографического романа «Крест» (2000), сборника повестей «Ниоткуда с любовью», романа «Дидар и Фарук» (2006), номинированного на литературную премию «Libris» и переведенного на немецкий, и романа «Сто лет уюта» (2009). Новый роман «Не боюсь Синей Бороды» (2015) был написан одновременно по-голландски и по-русски. Вышедший в 2016-м сборник эссе «Зимние ливни» был удостоен престижной литературной премии «Jan Hanlo Essayprijs». Роман «Не боюсь Синей Бороды» – о поколении «детей Брежнева», чье детство и взросление пришлось на эпоху застоя, – сшит из четырех пространств, четырех времен.