История леса. Взгляд из Германии - [5]
Если мы хотим придать дискуссии об охране природы более конкретный и вещественный характер, то следует подойти к лесному мифу с исторической точки зрения. Понять, когда и как он появился, какое влияние оказал на обращение человека с лесом. Это имеет принципиальное значение не только для природоохранных дискуссий в Германии и соседних с нею стран, где господствуют сходные представления. Важно это и для того, чтобы «подогнать» друг к другу подходы к охране природы, бытующие в разных частях мира. Вероятно, особенно существенно различается восприятие леса в англоязычном и немецкоязычном пространствах. В нашей семье не раз пересказывали разговор, произошедший вскоре после окончания Второй мировой войны между моим дедом, гамбургским книготорговцем Куртом Зауке и одним английским офицером-связистом. Речь зашла о немецкой литературе, о том, какую роль она должна играть в демократической переориентации немецкого народа. Были упомянуты и сказки братьев Гримм. Последовал комментарий собеседника: «Oh no, that's too much wood!»[11] Он не хотел, чтобы фантазия немцев (вновь) направлялась в леса. Почему же так любимы сказки братьев Гримм и почему это было (и остается) столь подозрительно для англичанина?
С одной стороны, над своеобразным отношением немцев к «их» лесам можно посмеяться, с другой стороны, именно таким образом проявляется высокая экономическая значимость леса. Выращивание лесов, или научное лесоводство, «изобретено» в Центральной Европе, немцы принадлежат в этой отрасли к ведущим мировым специалистам. И в конце концов лесной ландшафт – основной для Центральной Европы.
Основные темы данной книги – постоянная смена как характерная черта живых систем, одной из которых является лес; возрастающее воздействие на лес со стороны человека; возникновение «лесного мифа», повлекшего за собой особое отношение к лесам. Она ни в коем случае не представляет собой справочник, в ней собраны не все данные об истории лесов, а только те, что служат вышеперечисленным целям. Привлекаются не только письменные исторические источники – ведь тем сведениям о лесе, которые мы можем в полной мере назвать историческими, всего несколько столетий. Не менее значимы окаменелости, древесные остатки, пыльцевые зерна и остатки доисторических поселений, тем более что письменные источники всегда в той или иной степени субъективны. Впрочем, автор этой книги вполне осознает, что субъективны и его представления.
Итак, лес – не только природа, но и продукт культуры, тех людей, которые вели в нем хозяйство, ухаживали за ним или сажали его. Лес является одновременно и антиподом цивилизации, и ее частью. Без дерева как сырья и ресурса не была бы возможна человеческая цивилизация. Лес лежит вне основной зоны воздействия сельской культуры и во многих отношениях ограничивает наш горизонт. Однако эта граница – не природная данность, она возникла в процессе развития культуры, как следствие разделения земель на сельскохозяйственные и лесные и проведения ландшафтного планирования. Понятие «лес», как и «ландшафт», как и «природа», во многих отношениях двойственно, а в Центральной Европе – особенно: это не только объект рассмотрения, но и нечто субъективное, что представляет под этим понятием конкретный человек. Субъективная составляющая, преломляясь в мыслях, словах и делах, меняет и сам объект. Это тоже исторический процесс, влияние субъективных представлений на судьбу леса постоянно растет. Очень важно суметь распознать его сегодня, когда идут дискуссии о том, не заходит ли в тупик лесное хозяйство и не является ли иллюзорным путь предоставления лесов «собственной судьбе». Пусть эта книга внесет свой вклад в дискуссии и размышления. Моя сердечная благодарность всем тем, с кем я обсуждал спорные вопросы, а также моему отцу Гетцу Кюстеру за просмотр и правку книги.
I. Первые деревья, первые леса
Миллионы лет в лесах нашей планеты росли, сменяя друг друга, разные виды растений. Леса появлялись, развивались и погибали, в разных местах Земли они выглядели по-разному. Объединяло их одно: во всех лесах бок о бок росли древесные растения высотой от нескольких до сотни метров. Каким бы разным ни было их происхождение и облик, но в любом лесу со временем накапливалась гигантская биомасса, под пологом деревьев царила тень и создавался своеобразный климат, так что во все эпохи лесные экосистемы представляли собой особый мир, не похожий на открытое пространство.
На ранних стадиях истории Земли лесов как целостных экосистем еще не было. Чтобы понять, как они появились, придется сделать небольшое отступление и вспомнить о том, как возникла на Земле жизнь, в первую очередь растения (это для нас особенно важно), и как первые из них освоили сушу.
Поверхность Земли, поначалу раскаленная, медленно остывала, пока температура не понизилась настолько, что на ней могла существовать жизнь. Охлаждение атмосферы привело к конденсации воды, образовались моря. Их огромные водные массы, в свою очередь, влияли на атмосферу, смягчая постоянные колебания температуры. И если ранее процесс этот был неровным, скачкообразным, то теперь температура снижалась равномерно. В самих морях температура была особенно устойчивой, что и стало одной из причин, почему развитие жизни в водной среде вероятнее, чем вне ее. Сложные углеводороды живых организмов, например, молекулы белков, при резких колебаниях температуры изменяются, и организм может погибнуть. Равномерные температуры, напротив, удерживают сложные молекулы в стабильном состоянии.

Книга посвящена исследованию исторической, литературной и иконографической традициям изображения мусульман в эпоху крестовых походов. В ней выявляются общие для этих традиций знаки инаковости и изучается эволюция представлений о мусульманах в течение XII–XIII вв. Особое внимание уделяется нарративным приемам, с помощью которых средневековые авторы создают образ Другого. Le present livre est consacré à l'analyse des traditions historique, littéraire et iconographique qui ont participé à la formation de l’image des musulmans à l’époque des croisades.

Пьер Видаль-Накэ (род. в 1930 г.) - один из самых крупных французских историков, автор свыше двадцати книг по античной и современной истории. Он стал одним из первых, кто ввел структурный анализ в изучение древнегреческой истории и наглядно показал, что категории воображаемого иногда более весомы, чем иллюзии реальности. `Объект моего исследования, - пишет он, - не миф сам по себе, как часто думают, а миф, находящийся на стыке мышления и общества и, таким образом, помогающий историку их понять и проанализировать`. В качестве центрального объекта исследований историк выбрал проблему перехода во взрослую военную службу афинских и спартанских юношей.

«Палли-палли» переводится с корейского как «Быстро-быстро» или «Давай-давай!», «Поторапливайся!», «Не тормози!», «Come on!». Жители Южной Кореи не только самые активные охотники за трендами, при этом они еще умеют по-настоящему наслаждаться жизнью: получая удовольствие от еды, восхищаясь красотой и… относясь ко всему с иронией. И еще Корея находится в топе стран с самой высокой продолжительностью жизни. Одним словом, у этих ребят, полных бодрости духа и поразительных традиций, есть чему поучиться. Психолог Лилия Илюшина, которая прожила в Южной Корее не один год, не только описывает особенности корейского характера, но и предлагает читателю использовать полезный опыт на практике.

Уникальная книга профессора лондонского Королевского колледжа Джудит Херрин посвящена тысячелетней истории Восточной Римской империи – от основания Константинополя до его захвата турками-османами в 1453 году. Авторитетный исследователь предлагает новый взгляд на противостояние Византийской империи и Западного мира, раскол христианской церкви и причины падения империи. Яркими красками автор рисует портреты императоров и императриц, военных узурпаторов и духовных лидеров, талантливых ученых и знаменитых куртизанок.
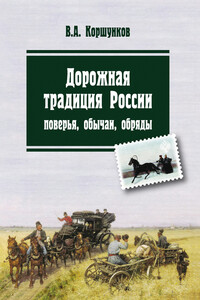
В книге исследуются дорожные обычаи и обряды, поверья и обереги, связанные с мифологическими представлениями русских и других народов России, особенности перемещений по дорогам России XVIII – начала XX в. Привлекаются малоизвестные этнографические, фольклорные, исторические, литературно-публицистические и мемуарные источники, которые рассмотрены в историко-бытовом и культурно-антропологическом аспектах.Книга адресована специалистам и студентам гуманитарных факультетов высших учебных заведений и всем, кто интересуется историей повседневности и традиционной культурой народов России.
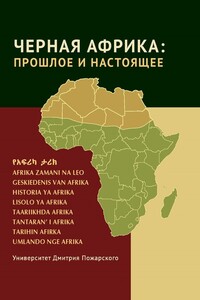
Авторский коллектив – сотрудники Института всеобщей истории РАН, Института Африки РАН и преподаватели российских вузов (ИСАА МГУ, МГИМО, НИУ ВШЭ) – в доступной и лаконичной форме изложил основные проблемы и сюжеты истории Тропической и Южной Африки с XV в. по настоящее время. Среди них: развитие африканских цивилизаций, создание и распад колониальной системы, становление колониального общества, формирование антиколониализма и идеологии африканского национализма, события, проблемы и вызовы второй половины XX – начала XXI в.
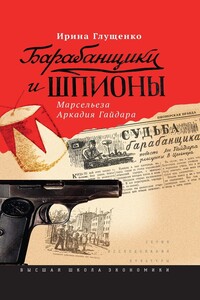
Книга Ирины Глущенко представляет собой культурологическое расследование. Автор приглашает читателя проверить наличие параллельных мотивов в трех произведениях, на первый взгляд не подлежащих сравнению: «Судьба барабанщика» Аркадия Гайдара (1938), «Дар» Владимира Набокова (1937) и «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова (1938). Выявление скрытой общности в книгах красного командира Гражданской войны, аристократа-эмигранта и бывшего врача в белогвардейской армии позволяет уловить дух времени конца 1930-х годов.
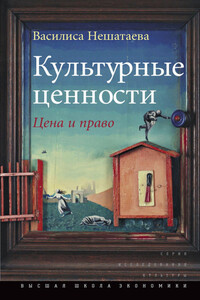
Культурные ценности представляют собой особый объект правового регулирования в силу своей двойственной природы: с одной стороны – это уникальные и незаменимые произведения искусства, с другой – это привлекательный объект инвестирования. Двойственная природа культурных ценностей порождает ряд теоретических и практических вопросов, рассмотренных и проанализированных в настоящей монографии: вопрос правового регулирования и нормативного закрепления культурных ценностей в системе права; проблема соотношения публичных и частных интересов участников международного оборота культурных ценностей; проблемы формирования и заключения типовых контрактов в отношении культурных ценностей; вопрос выбора оптимального способа разрешения споров в сфере международного оборота культурных ценностей.Рекомендуется практикующим юристам, студентам юридических факультетов, бизнесменам, а также частным инвесторам, интересующимся особенностями инвестирования на арт-рынке.

Понятие «человек» нуждается в срочном переопределении. «Постчеловек» – альтернатива для эпохи радикального биотехнологического развития, отвечающая политическим и экологическим императивам современности. Философский ландшафт, сформировавшийся в качестве реакции на кризис человека, включает несколько движений, в частности постгуманизм, трансгуманизм, антигуманизм и объектно-ориентированную онтологию. В этой книге объясняются сходства и различия данных направлений мысли, а также проводится подробное исследование ряда тем, которые подпадают под общую рубрику «постчеловек», таких как антропоцен, искусственный интеллект, биоэтика и деконструкция человека. Особое внимание Франческа Феррандо уделяет философскому постгуманизму, который она определяет как философию медиации, изучающую смысл человека не в отрыве, а в связи с технологией и экологией.
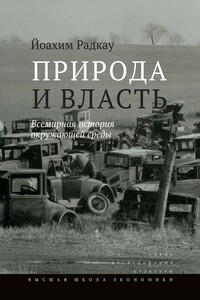
Взаимоотношения человека и природы не так давно стали темой исследований профессиональных историков. Для современного специалиста экологическая история (environmental history) ассоциируется прежде всего с американской наукой. Тем интереснее представить читателю книгу «Природа и власть» Йоахима Радкау, профессора Билефельдского университета, впервые изданную на немецком языке в 2000 г. Это первая попытка немецкоговорящего автора интерпретировать всемирную историю окружающей среды. Й. Радкау в своей книге путешествует по самым разным эпохам и ландшафтам – от «водных республик» Венеции и Голландии до рисоводческих террас Китая и Бали, встречается с самыми разными фигурами – от первобытных охотников до современных специалистов по помощи странам третьего мира.