История как проблема логики. Часть первая. Материалы - [4]
Эта частная по существу проблема, однако, сохраняет большое общее значение, и притом не только философское. Споры, о которых я упомянул выше, и в период которых началась моя работа, как будто умолкли. Но все говорит за то, что это молчание происходит от усиленной работы над поднявшимися тогда вопросами. Они задевали философию с самых разнообразных сторон, и можно было бы назвать целый ряд уже вышедших философских исследований, которые передумывают и перерешают старые проблемы под влиянием и возбуждением особенностей «новой науки». Не менее глубоко, однако, эти споры задевали и представителей специальных наук, – и не только истории, хотя, разумеется, прежде всего именно истории. Одним уже своим количеством об этом свидетельствует соответствующая литература.
Я хотел бы здесь обратить внимание только на нашу литературу. Наша философская литература и возникла прежде всего как философско-историческая, и никогда не переставала интересоваться историей, как проблемой, – об этом говорить много не приходится. Но и наука история у нас стоит особенно высоко. Здесь больше всего проявилась самостоятельность, зрелость и самобытность нашего научного творчества. Как не гордиться именами Соловьева, Ключевского, Антоновича, Владимирского-Буданова и многих, многих других? И замечательно, что это все – школы, т. е. методы, свои методы, и в конечном счете, следовательно, свои философские принципы. Какой интерес среди современных русских историков вызывают методологические и философские вопросы, видно из большого количества соответствующих работ наших историков. Не говоря уже о многочисленных статьях, назову только такие курсы, как курсы профессора Виппера, профессора Лаппо-Данилевского, профессора Кареева, профессора Хвостова, – это из появившихся в печати; иные выходят «на правах рукописи»; иные не появляются в печати, но читаются у нас почти в каждом университете.
При таком отношении к теоретическим проблемам истории со стороны представителей этой науки, кажется прямо-таки обязанностью и со стороны нашей философии внести свой вклад и свой свет в решение этих трудных и сложных вопросов. Как возбуждающе должны на нас действовать такие статьи, как, например, интересная статья профессора Виппера, «Несколько замечаний о теории исторического познания», где, в сущности, философии задается целая программа для методологических исследований, нужных самой науке. И как поощряюще должны быть приняты нижеследующие слова одного из лучших представителей нашей исторической науки: «Прибавим к этому, что начавшаяся в самое последнее время энергичная работа философско-критического пересмотра основных исторических (социологических) понятий, в значительной мере вызванная недавними и еще до сих пор не замолкнувшими спорами материалистов и идеологов и обещающая очень ценные результаты для общественной философии и науки, да уже и теперь оказывающая свое освежающее и оздоровляющее влияние на научную атмосферу, успела уже поколебать немало общепризнанных воззрений и давно утвердившихся в исторической науке рубрик, схем и классификаций, показав всю их, в лучшем случае, поверхностность и наивную (в философском смысле) субъективность, и поставила ряд вопросов там, где до сих пор царила догматическая уверенность и определенность» (Д. М. Петрушевский). Значение работы задаваемой таким образом логике и методологии понятно само собою. Первым шагом к достижению хотя бы самых скромных целей должно быть тщательное собирание соответствующих материалов.
Я прошу читателя, который хотел бы ознакомиться предварительно, или только, с результатами, к которым я пришел в этой работе, обратить внимание на следующие параграфы: Гл. I, 12; Гл. II, 9; Гл. III, 8; Гл. IV, 9; Гл. V, 6 и 12.
Историко-филологическому Факультету Московского Университета я обязан двойной благодарностью: 1, за исходатайствование мне продолжительной заграничной командировки, доставившей мне столь необходимый для ученой работы досуг, – лучше сказать, σχολή; 2, за щедрую денежную помощь, покрывшую большую часть издержек по напечатанию этой книги.
Особой благодарностью я обязан моему учителю Георгию Ивановичу Челпанову, чей исключительный педагогический дар я испытывал не только в пору своего образования, но и при всякой самостоятельной пробе, когда так неизбежны сомнения, колебания и неуверенность, и когда снисходительность – лучшая помощь и поддержка. Моя книга выходит в год, который отмечает его двадцатипятилетнее служение нашей науке и нашему философскому образованию, – я гордился бы, если бы он захотел признать в моей работе один из плодов своей собственной деятельности.
Москва. 1916, февраль.
Густав Шпет.
Введение
1
Господствующая в настоящее время философия есть философия отрицательная. Отрицание является в ней не конечным только результатом, оно принадлежит к самому существу современной философии, – с отрицания она начинает, на отрицании строится и к отрицанию приходит. Это – существенная черта ее и основной недостаток ее, так как в этом всеобщем отрицании лежит коренное, нестерпимое противоречие: она отрицает то, что призвана утверждать, и, отрицая, тем самым утверждает отрицаемое, так как философское отрицание по существу своему, как и философское утверждение, должно быть
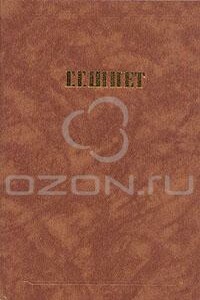
Выдающийся русский философ Г.Г.Шпет в начале 1920-х годов заинтересовался проблемами эстетики и посвятил им свои замечательные «Эстетические фрагменты», открывающие его многолетние размышления над сущностью человеческого бытия и познания. Для лингвистов наиболее интересной является публикуемая вторая часть «Эстетических фрагментов», отражающая взгляды автора на различные проблемы философии языка, семиотики, лингвогенеза, логического анализа языка, семасиологии, психолингвистики (в частности, на проблему рецепции и понимания речи)
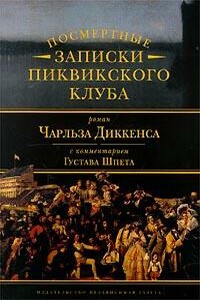
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
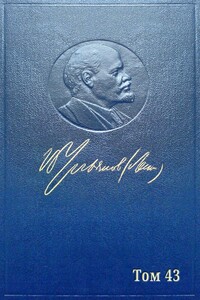
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
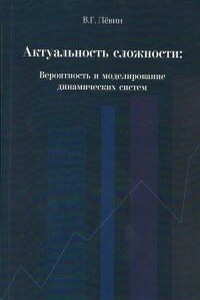
Исследуется проблема сложности в контексте разработки принципов моделирования динамических систем. Применяется авторский метод двойной рефлексии. Дается современная характеристика вероятностных и статистических систем. Определяются общеметодологические основания неодетерминизма. Раскрывается его связь с решением задач общей теории систем. Эксплицируется историко-научный контекст разработки проблемы сложности.
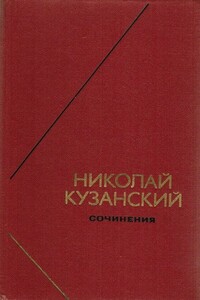
Во второй том Сочинений вошли его главные произведения 1449—1464 гг. «Апология ученого незнания», «О видении бога», «Берилл», «О неином», «Игра в шар», «Охота за мудростью» и др. На почве античной и средневековой традиции здесь развертывается диалектика восхождения к первоначалу, учение о единстве мира, о человеке как микрокосме и о цели жизни.

Артемий Владимирович Магун (р. 1974) — философ и политолог, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, преподает на Факультете свободных искусств и наук СПбГУ. Подборка статей по политологии и социологии с 2003 по 2017 гг.

I. Современный мир можно видеть как мир специалистов. Всё важное в мире делается специалистами; а все неспециалисты заняты на подсобных работах — у этих же самых специалистов. Можно видеть и иначе — как мир владельцев этого мира; это более традиционная точка зрения. Но для понимания мира в аспектах его прогресса владельцев можно оставить за скобками. Как будет показано далее, самые глобальные, самые глубинные потоки мировых тенденций владельцы не направляют. Владельцы их только оседлывают и на них едут. II. Это социально-философское эссе о главном вызове, стоящем перед западной цивилизацией — о потере ее людьми изначальных человеческих качеств и изначальной человеческой целостности, то есть всего того, что позволило эту цивилизацию построить.

Санкт-Петербург - город апостола, город царя, столица империи, колыбель революции... Неколебимо возвысившийся каменный город, но его камни лежат на зыбкой, болотной земле, под которой бездна. Множество теней блуждает по отражённому в вечности Парадизу; без счёта ушедших душ ищут на его камнях свои следы; голоса избранных до сих пор пробиваются и звучат сквозь время. Город, скроенный из фантастических имён и эпох, античных вилл и рассыпающихся трущоб, классической роскоши и постапокалиптических видений.
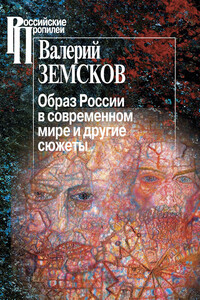
В книге известного литературоведа и культуролога, профессора, доктора филологических наук Валерия Земскова осмысливается специфика «русской идентичности» в современном мире и «образа России» как культурно-цивилизационного субъекта мировой истории. Автор новаторски разрабатывает теоретический инструментарий имагологии, межкультурных коммуникаций в европейском и глобальном масштабе. Он дает инновационную постановку проблем цивилизационно-культурного пограничья как «универсальной константы, энергетического источника и средства самостроения мирового историко-культурного/литературного процесса», т. е.
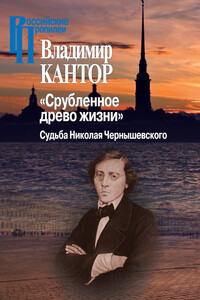
В книге предпринята попытка демифологизации одного из крупнейших мыслителей России, пожалуй, с самой трагической судьбой. Власть подарила ему 20 лет Сибири вдали не только от книг и литературной жизни, но вдали от просто развитых людей. Из реформатора и постепеновца, блистательного мыслителя, вернувшего России идеи христианства, в обличье современного ему позитивизма, что мало кем было увидено, литератора, вызвавшего к жизни в России идеологический роман, по мысли Бахтина, человека, ни разу не унизившегося до просьб о помиловании, с невероятным чувством личного достоинства (а это неприемлемо при любом автократическом режиме), – власть создала фантом революционера, что способствовало развитию тех сил, против которых выступал Чернышевский.
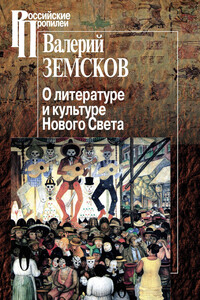
В книге известного литературоведа и культуролога, профессора, доктора филологических наук Валерия Земскова, основателя российской школы гуманитарной междисциплинарной латиноамериканистики, публикуется до сих пор единственный в отечественном литературоведении монографический очерк творчества классика XX века, лауреата Нобелевской премии, колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса. Далее воссоздана история культуры и литературы «Другого Света» (выражение Христофора Колумба) – Латинской Америки от истоков – «Открытия» и «Конкисты», хроник XVI в., креольского барокко XVII в.
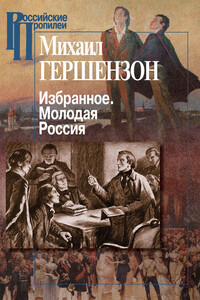
Михаил Осипович Гершензон (1869–1925) – историк русской литературы и общественной мысли XIX века, философ, публицист, переводчик, редактор и издатель и, прежде всего, тонкий и яркий писатель.В том входят книги, посвященные исследованию духовной атмосферы и развития общественной мысли в России (преимущественно 30-40-х годов XIX в.) методом воссоздания индивидуальных биографий ряда деятелей, наложивших печать своей личности на жизнь русского общества последекабрьского периода, а также и тех людей, которые не выдерживали «тяжести эпохи» и резко меняли предназначенные им пути.