История и повествование - [28]
Подобный выход за пределы обычного описания в мир театра осуществляется в «Фонаре» несколькими способами, в том числе — расположением текста на странице. Но основная «постановочная» миссия возложена в «Фонаре» на восемь пар императивов-призывов, разрешающихся аористом-исполнением. Обращенные одновременно и к фонарю, и к тексту, и к самому миру магические заклинания: «Явись! И бысть» — «Исчезнь! Исчез» — также обрамляют каждое из появляющихся видений, как обрамляют все восемь «картин» спектакля — первая, вводная, и три заключительных строфы стихотворения[81].
Во второй строфе библейские коннотации императива «Явись!» усилены и самим сюжетом картины — лев, нападающий на овечку, — и синкретическим мотивом «сверкающего и грохочущего» львиного взора[82]:
Как уже отмечалось, на виньете, предварявшей державинское стихотворение, волшебный фонарь проецировал на белый холст, наброшенный на полуразрушенную стену, изображение льва, разинувшего пасть и «подъявшего хвост». Этот образ служит дополнительной отсылкой державинского текста к эмблематической традиции и тем самым усиливает зрительную нагрузку этого стихотворения (ориентация на наглядность подчеркивается также использованием абстрактных эпитетов в их первом, лексическом значении: так, например, «превеликий Лев» в данном случае действительно значит «очень большой»)[83].
Все восемь «картин», представленные в державинском «Фонаре», построены по одной схеме. Они возникают, достигают точки высшего напряжения, акмэ, чтобы оборваться, раствориться, стихнуть[84]. Появление каждого следующего видения в «Фонаре» обусловлено исчезновением предыдущего; сосуществование полностью исключено. В своем стихотворении Державин обращается к одному из наиболее архаичных театральных архетипов, восходящему к докультовому, «действенному» фольклору, — архетипу явления/исчезновения (сияния/помрачения)[85]. В мистериальных действах такого рода предмет «выводился» из тени на свет, чтобы затем быть снова возвращенными в тень. О. М. Фрейденберг так характеризовала подобные представления: «Анарративные образы, представленные в виде малоподвижных „персон“, т. е. вещей, масок и олицетворявших вещи людей, не имели ни сюжета, ни действия; их сущность заключалась только в виде „появлений“ или „уходов“ световых инкарнаций. Моменты сияний, или „чудес“, вызывали „явление“, т. е. свечение, свет, — на диво дивовались. Инкарнации света имели свою „изнанку“, свои „подобия“, в виде „тени“ — призраков, мрака, тумана, туч и т. д.»[86].
Игра света и тени лежит в основе движения державинского стихотворения: то, что могло бы называться «лирическим сюжетом», здесь заслуживает скорее названия «лирического сценария». В пятой строфе «Фонаря» световые инкарнации становятся самостоятельной темой:
Предметом описания в «Фонаре» является не каждая картина в отдельности, но их смена (в первых публикациях непрерывность превращений подчеркивалась отсутствием деления текста на строфы)[87]. В то же время сам подбор картин далеко не случаен, хотя и может интерпретироваться по-разному. Одна из наиболее правдоподобных трактовок державинского «ментального кинематографа»[88] заставляет нас видеть в этом «фильме» две симметричные части по четыре строфы каждая[89].
В первых четырех картинах (строфы II–V) поэт перечисляет четыре природные стихии (лев бросается на овечку на земле; «рыбий князь», осетр, борется с чудищем морским соответственно на море, то есть в воде; орел нападает на лебедя в воздухе, и, наконец, в пятой, только что цитированной строфе, огонь пожирает город)[90]. Представив, таким образом, мысленному взору читателя-зрителя божьих тварей — зверей, птиц и рыб, — в следующих четырех строфах (VI–IX) Державин обращается к «высшему творению Божию» — Человеку. Поэт говорит о его пороках (скупость торговца (VI)), добродетелях (трудолюбие земледельца (VII)), страстях (вожделение новобрачных (VIII)) и, наконец, о смертном грехе гордыни, воплощенном в образе «дерзкого вождя», простершего «десницу на корону» (IX), — не названного, но однозначно подразумеваемого здесь Бонапарта

Книга посвящена истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX века: времени конкуренции двора, масонских лож и литературы за монополию на «символические образы чувств», которые образованный и европеизированный русский человек должен был воспроизводить в своем внутреннем обиходе. В фокусе исследования – история любви и смерти Андрея Ивановича Тургенева (1781–1803), автора исповедального дневника, одаренного поэта, своего рода «пилотного экземпляра» человека романтической эпохи, не сумевшего привести свою жизнь и свою личность в соответствие с образцами, на которых он был воспитан.

Запись программы из цикла "ACADEMIA". Доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой славистики Оксфордского университета Андрей Леонидович Зорин рассказывает о трансформационном рывке в русской истории XIX века, принятии и осмыслении новых культурных веяний, приходящих с европейскими произведениями литературы и искусства.

Лев Толстой давно стал визитной карточкой русской культуры, но в современной России его восприятие нередко затуманено стереотипами, идущими от советской традиции, – школьным преподаванием, желанием противопоставить Толстого-художника Толстому-мыслителю. Между тем именно сегодня Толстой поразительно актуален: идея ненасильственного сопротивления, вегетарианство, дауншифтинг, требование отказа от военной службы, борьба за сохранение природы, отношение к любви и к сексуальности – все, что казалось его странностью, становится мировым интеллектуальным мейнстримом.

Поздняя проза Леонида Зорина (1924–2020) написана человеком, которому перевалило за 90, но это действительно проза, а не просто мемуары много видевшего и пережившего литератора, знаменитого драматурга, чьи пьесы украшают и по сей день театральную сцену, а замечательный фильм «Покровский ворота», снятый по его сценарию, остается любимым для многих поколений. Не будет преувеличением сказать, что это – интеллектуальная проза, насыщенная самыми главными вопросами – о сущности человека, о буднях и праздниках, об удачах и неудачах, о каверзах истории, о любви, о смерти, приближение и неотвратимость которой автор чувствует все острей, что создает в книге особое экзистенциальное напряжение.
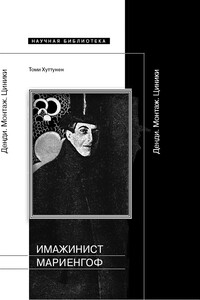
Исследование финского литературоведа посвящено творчеству Анатолия Борисовича Мариенгофа (1897–1962) и принципам имажинистского текста. Автор рассматривает не только имажинизм как историко-культурное явление в целом, но и имажинизм именно Мариенгофа, основываясь прежде всего на анализе его романа «Циники» (1928), насыщенного автобиографическими подтекстами и являющегося своеобразной летописью эпохи.

Представление об «особом пути» может быть отнесено к одному из «вечных» и одновременно чисто «русских» сценариев национальной идентификации. В этом сборнике мы хотели бы развеять эту иллюзию, указав на относительно недавний генезис и интеллектуальную траекторию идиомы Sonderweg. Впервые публикуемые на русском языке тексты ведущих немецких и английских историков, изучавших историю довоенной Германии в перспективе нацистской катастрофы, открывают новые возможности продуктивного использования метафоры «особого пути» — в качестве основы для современной историографической методологии.

Один из основателей русского символизма, поэт, критик, беллетрист, драматург, мыслитель Дмитрий Сергеевич Мережковский (1865–1941) в полной мере может быть назван и выдающимся читателем. Высокая книжность в значительной степени инспирирует его творчество, а литературность, зависимость от «чужого слова» оказывается важнейшей чертой творческого мышления. Проявляясь в различных формах, она становится очевидной при изучении истории его текстов и их источников.В книге текстология и историко-литературный анализ представлены как взаимосвязанные стороны процесса осмысления поэтики Д.С.
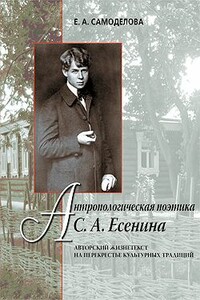
До сих пор творчество С. А. Есенина анализировалось по стандартной схеме: творческая лаборатория писателя, особенности авторской поэтики, поиск прототипов персонажей, первоисточники сюжетов, оригинальная текстология. В данной монографии впервые представлен совершенно новый подход: исследуется сама фигура поэта в ее жизненных и творческих проявлениях. Образ поэта рассматривается как сюжетообразующий фактор, как основоположник и «законодатель» системы персонажей. Выясняется, что Есенин оказался «культовой фигурой» и стал подвержен процессу фольклоризации, а многие его произведения послужили исходным материалом для фольклорных переделок и стилизаций.Впервые предлагается точка зрения: Есенин и его сочинения в свете антропологической теории применительно к литературоведению.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
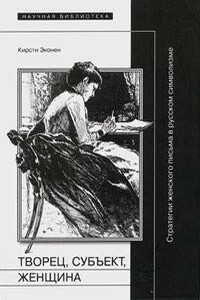
В работе финской исследовательницы Кирсти Эконен рассматривается творчество пяти авторов-женщин символистского периода русской литературы: Зинаиды Гиппиус, Людмилы Вилькиной, Поликсены Соловьевой, Нины Петровской, Лидии Зиновьевой-Аннибал. В центре внимания — осмысление ими роли и места женщины-автора в символистской эстетике, различные пути преодоления господствующего маскулинного эстетического дискурса и способы конструирования собственного авторства.

Проблемными центрами книги, объединяющей работы разных лет, являются вопросы о том, что представляет собой произведение художественной литературы, каковы его природа и значение, какие смыслы открываются в его существовании и какими могут быть адекватные его сути пути научного анализа, интерпретации, понимания. Основой ответов на эти вопросы является разрабатываемая автором теория литературного произведения как художественной целостности.В первой части книги рассматривается становление понятия о произведении как художественной целостности при переходе от традиционалистской к индивидуально-авторской эпохе развития литературы.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.