История бухты Голландия в Севастополе - [5]
Бухта Мраморная
Находится в районе мыса Фиолент, восточнее Георгиевского монастыря, и оканчивается Мраморной балкой. Своим названием бухта обязана добывавшемуся здесь когда-то «крымскому мрамору». На самом деле, это – мраморовидный известняк, не являющийся таким ценным материалом, как мрамор, но отлично поддающийся полировке. Широко используется как отделочный декоративный материал и как сырье для выработки флюсов.
Бухта Балаклавская
Бухта врезана на 1,5 километра вглубь расщелины скального массива в северном направлении. Ширина ее 200–400 метров (в самом узком месте – 45 метров), глубина 5-10 метров в верховьях, до 25 метров – у пляжа и до 35 метров – на горловине. Вход в бухту расположен между мысами Святого Георгия (он же – Балаклавский, восточный берег) и мысом Курона (он же – Западный, Батарейный). У входа в бухту на восточном берегу находится гора Крепостная (Кастрон) с руинами генуэзской крепости Чембало. Бухта изогнутая, живописная, скрыта горами, совершенно незаметна со стороны моря. Извилистый фарватер защищает бухту от сильных штормов. Особенностью Балаклавской бухты является ее ограниченная связь с открытой частью моря. Рельеф береговой линии разделяет бухту на две части – южную глубоководную, сообщающуюся с открытой частью моря, и северную – мелководную, практически застойную. Балаклавская бухта одна из лучших в мире с точки зрения ее географических, природных и навигационных особенностей: она закрыта от ветра и волн любого направления. При этом, не загружена крупнотоннажными судами, что повышает безопасность навигации. Древнегреческое название бухты – Симболон-лимен (Симболон, гавань символов). Вполне вероятно, что именно она упоминалась в «Одиссее» Гомера как Бухта листригонов. В средние века здесь находился порт Ямболи.
Бухта Ершиная
Небольшая бухточка в двухстах метрах к востоку от входа в Балаклавскую бухту. Вполне вероятно, что свое название получила от того, что рыболовы-любители всегда ловили в ней в изобилии черноморских ершей.
Севастополь – город, где морской транспорт работает круглогодично. Севастопольская бухта вдается вглубь Крымского полуострова на восемь километров, по ее берегам расположены жилые районы, промышленные предприятия. Поэтому в любое время года в бухте всегда интенсивное движение.
Владимир Бойко
ветеран – подводник ВМФ РФ
Возникновение топонима «Бухта Голландия»
Географические названия – это своего рода исторические памятники, отражающие подчас быт и трудовую деятельность человека. Некоторые топонимы весьма экзотичны и любопытны. И один из них, возникший два века назад – Голландия на Северной стороне Севастополя. Истоки этого названия ведут к преобразованиям Петра I.
Начав в юности с потешных судов, он сумел создать сильный регулярный флот и добился превращения России в великую морскую державу. Под именем Петра Михайловича он учился в Голландии искусству кораблевождения. Там же постигала эту науку и русская молодежь. Но специалистов не хватало. Петр I стал приглашать в Россию лучших голландских мастеров. Так, в Кронштадте, крепости, построенной для защиты столицы, появился поселок Новая Голландия.
Мачтовый лес вначале привозили из-за границы. И в простонародье лесные склады в Кронштадте и Санкт – Петербурге стали называть «Голландиями». Когда основали Севастополь, для «вновь заводимого» Черноморского флота понадобилось много лесоматериала, который везли из Николаева и Херсона по морю и суше. Единственная дорога из Симферополя в Севастополь в то время выходила на Северную сторону города. Поэтому лес подвозили к удобной бухте, из которой его переправляли в Адмиралтейство, в Килен – бухту и бухту Корабельную. Лесной склад на Северной стороне моряки, прибывшие в Севастополь с Балтики, а за ними и все горожане, стали называть Голландией. Постепенно этот топоним закрепился за балкой, бухтой, затем и пристанью.
Возможна также другая версия образования названия бухты, судя по записи в Лоции Черного моря, изданной Черноморским гидрографическим Депо в 1851 году: «…невдалеке от Инкермана сад командира Порта, называемый Голландиею…».
И сейчас горожане воспринимают его как бытующее название местности на Северной стороне, а мы, будучи курсантами Севастопольского ВВМИУ, родное училище иначе как «Голландия» и не называли.
С этим названием связан один курьезный случай: в 1971 году наш курс проходил корабельную практику на крейсере «Дзержинский» и попал на проводимый строевой смотр Главкомом ВМФ СССР С.Горшковым. Обходя строй курсантов,
Главком возьми и спроси у стоящего, в строю курсанта Севастопольского ВВМИУ:
«В каком училище обучаетесь, товарищ курсанті». Ответ последовал незамедлительно «В «Голландии», товарищ Адмирал Флота Советского Союза\». Главком начал интересоваться у сопровождающих его офицеров, почему он не знает, что в СССР уже начали обучаться в военно-морских учебных заведениях Голландии…
Второй курьез выдала одна из программ телевидения в сентябре 2013 года, громогласно заявивши с экрана: «…бухта Голландия называется так потому, что там жили голландцы»!?
Как же после всего этого не попытаться рассказать о действительной истории бухты Голландия в Севастополе, отвечая на вопрос: «Что, когда и почему?».
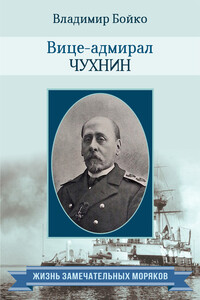
Об адмирале Григории Павловиче Чухнине, который был одним из самых заметных командующих Черноморским флотом в XIX веке, выполнявшим данную им присягу на верность Царю и Отечеству написано очень мало. По советской, официальной истории, адмирал Чухнин был «царский сатрап», исключительно тупой и исполнительный держиморда, беспринципный карьерист. Это не так! Григорий Павлович был совсем другим человеком. Основу его жизни составляли принципы морали и не в карьере он видел смысл жизни, а в служение Отечеству и флоту, ради которого он не щадил ни себя, ни других.
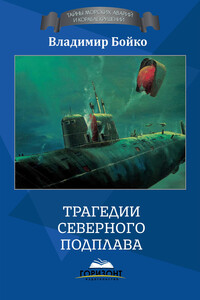
В книге рассказывается о гибели подводных лодок в начале становления Подплава Северного флота, в годы Русско-японской войны, Первой мировой войны, Великой Отечественной войны, годы «Холодной» войны и в послевоенное время. Помещены фотографии и показан Боевой путь погибших подводных лодок.Только за последние полвека погибли девятнадцать отечественных подводных лодок. Всего в катастрофах и авариях за этот период Отечество потеряло около тысячи подводников, в шести катастрофах команды подводных лодок погибли в полном составе вместе с кораблем.
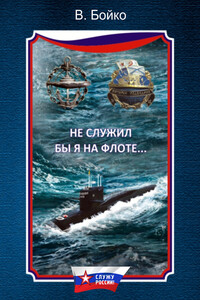
Воспоминания о своей учебе в Севастопольском ВВМИУ и последующей службе на атомных подводных лодках ВМФ СССР и РФ, ветеран – подводник Военно-Морского Флота России Владимир Бойко, впервые в литературе постсоветского пространства оформил в юмористической форме.Книга «Не служил бы я на флоте…» не является попыткой очернить флот или его представителей, а предназначена для людей, способных по достоинству оценить флотский юмор. Байки, анекдоты, крылатые выражения и изречения, приведенные в книге составляли, составляют и будут составлять неотъемлемую часть Военно-морской службы.
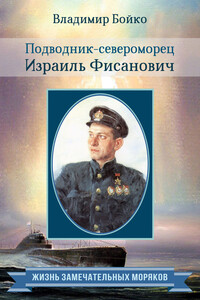
Книга "Подводник-североморец Израиль Фисанович» посвящена светлой памяти Героя – подводника Великой Отечественной войны – Фисанович Израиля Ильича. В книге рассказывается о его жизни и службе. О том, что он во время войны – не только первым прорвался по узкому длинному фьорду во вражеский порт Петсамо, но и первым среди командиров бригады подводных лодок Северного флота потопил за один поход два транспорта врага. Так с первого же боевого похода Фисанович возглавил когорту мастеров торпедной атаки. В истории советского флота имелось всего 4 гвардейских Краснознамённых корабля и один из них «малютка» М-172 – командиром которой был Израиль Фисанович.
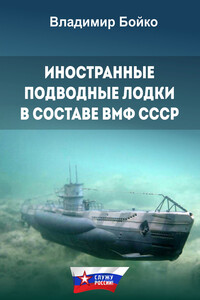
Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне досталась дорогой ценой. В ходе боевых действий Военно-Морской Флот СССР потерял 50.3 % подводных лодок и вышел из войны ослабленным, особенно по подводным лодкам, строительство которых требовало значительных затрат времени и материальных ресурсов. В этих условиях определенные перспективы быстрого восполнения боевых потерь открывало использование трофейных подводных лодок, но они незначительно сыграли свою роль в усилении Военно-Морского флота СССР.В данную книгу включены подводные лодки вошедшие в состав Военно-Морского флота Союза Советских Социалистических Республик перед Второй мировой войной, захваченные советскими войсками у Эстонии и Латвии, захваченные у Румынии и Германии в качестве трофеев в ходе боевых действий во время Великой Отечественной войны и полученные по репарациям от Германии и Италии по окончании военных действий.
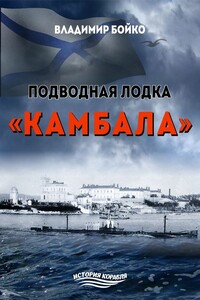
Книга посвящена памяти погибшим морякам подводной лодки «Камбала», вошедшей в Черноморский Подплав в первом десятилетии ХХ века, ставшей первой русской подводной лодкой погибшей со всей командой.Книга является уникальной по насыщенности сведениями из истории становления однотипных подводных лодок «Камбала», «Карась» и «Карп».Автор – Владимир Бойко, профессиональный подводник – увлекательно и подробно рассказывает об освоении нового класса кораблей, об эволюции Боевого использования подводных лодок и средств их вооружения.История появления подводной лодки «Камбала» вместе с однотипными подводными лодками «Карп» и «Карась» в составе Русского Императорского Флота, особенности конструкции и неизвестные подробности службы представляют значительный интерес не только для подводников Военно-морского флота, но и всех читателей, неравнодушных к истории Русского Подплава.Книгу сопровождают редкие фотографии, копии архивных документов и выдержки из документов, долгое время хранившиеся под грифом «Секретно».

Чудесные исцеления и пророчества, видения во сне и наяву, музыкальный восторг и вдохновение, безумие и жестокость – как запечатлелись в русской культуре XIX и XX веков феномены, которые принято относить к сфере иррационального? Как их воспринимали богословы, врачи, социологи, поэты, композиторы, критики, чиновники и психиатры? Стремясь ответить на эти вопросы, авторы сборника соотносят взгляды «изнутри», то есть голоса тех, кто переживал необычные состояния, со взглядами «извне» – реакциями церковных, государственных и научных авторитетов, полагавших необходимым если не регулировать, то хотя бы объяснять подобные явления.

Новая искренность стала глобальным культурным феноменом вскоре после краха коммунистической системы. Ее влияние ощущается в литературе и журналистике, искусстве и дизайне, моде и кино, рекламе и архитектуре. В своей книге историк культуры Эллен Руттен прослеживает, как зарождается и проникает в общественную жизнь новая риторика прямого социального высказывания с характерным для нее сложным сочетанием предельной честности и иронической словесной игры. Анализируя этот мощный тренд, берущий истоки в позднесоветской России, автор поднимает важную тему трансформации идентичности в посткоммунистическом, постмодернистском и постдигитальном мире.

В книге рассматривается столетний период сибирской истории (1580–1680-е годы), когда хан Кучум, а затем его дети и внуки вели борьбу за возвращение власти над Сибирским ханством. Впервые подробно исследуются условия жизни хана и царевичей в степном изгнании, их коалиции с соседними правителями, прежде всего калмыцкими. Большое внимание уделено отношениям Кучума и Кучумовичей с их бывшими подданными — сибирскими татарами и башкирами. Описываются многолетние усилия московской дипломатии по переманиванию сибирских династов под власть русского «белого царя».

Предлагаемая читателю книга посвящена истории взаимоотношений Православной Церкви Чешских земель и Словакии с Русской Православной Церковью. При этом главное внимание уделено сложному и во многом ключевому периоду — первой половине XX века, который характеризуется двумя Мировыми войнами и установлением социалистического режима в Чехословакии. Именно в этот период зарождавшаяся Чехословацкая Православная Церковь имела наиболее тесные связи с Русским Православием, сначала с Российской Церковью, затем с русской церковной эмиграцией, и далее с Московским Патриархатом.

Н.Ф. Дубровин – историк, академик, генерал. Он занимает особое место среди военных историков второй половины XIX века. По существу, он не примкнул ни к одному из течений, определившихся в военно-исторической науке того времени. Круг интересов ученого был весьма обширен. Данный исторический труд автора рассказывает о событиях, произошедших в России в 1773–1774 годах и известных нам под названием «Пугачевщина». Дубровин изучил колоссальное количество материалов, хранящихся в архивах Петербурга и Москвы и документы из частных архивов.

В монографии рассматриваются произведения французских хронистов XIV в., в творчестве которых отразились взгляды различных социальных группировок. Автор исследует три основных направления во французской историографии XIV в., определяемых интересами дворянства, городского патрициата и крестьянско-плебейских масс. Исследование основано на хрониках, а также на обширном документальном материале, произведениях поэзии и т. д. В книгу включены многочисленные отрывки из наиболее крупных французских хроник.