История абдеритов - [2]
– И это почему же?
Подобный вопрос задан, по-видимому, не учеными читателями. Помилуйте, кто стал бы писать книги, если бы все читатели были бы так же учены, как и автор? Вопрос «Почему?» – всегда весьма разумный вопрос, и он заслуживает ответа всякий раз, когда речь идет о предметах, имеющих отношение к человеку. И горе тому, кто почувствует затруднение, смутится или рассердится, когда должен будет ответить на вопрос – «Почему?». Мы, со своей стороны, дали бы ответ и не ожидая требования читателей, если бы только они не проявляли такой торопливости. Извольте, вот он!
Теос был одной из двенадцати или тринадцати афинских колоний, основанной в Ионии под предводительством Нелея, сына Кодра.[15]
Афиняне издавна были живым и умным народом, и, как говорят, являются таковыми и поныне. Переселившись в Ионию, они благоденствовали под Этими чудесными небесами, в этом обласканном природой краю, подобно бургундской виноградной лозе, пересаженной в предгорье.
Среди всех народов земли любимцами муз были ионические греки. Сам Гомер, по всей вероятности, был ионийцем. Иония была родиной эротической поэзии, милетских сказок[16] – предшественниц наших новелл и романов. Из Ионии происходили греческий Гораций – Алкей, пламенная Сапфо, Анакреонт – певец, Аспасия – наставница, Апеллес[17] – живописец Граций. Анакреонт даже по рождению теосец. Ему было около 18 лет (если правильны расчеты Барнса), когда его сограждане переселились в Абдеру. И он отправился с ними. В знак того, что он остался верен своей лире, служившей божествам любви, он воспел в Абдере фракийскую девушку.[18] В этой песне неистовый фракийский тон совершенно особым образом контрастирует с ионической грацией, свойственной его творениям.
Ну, кто бы теперь усомнился в том, что теосцы, сограждане Анакреонта, по происхождению афиняне, столь долго проживавшие в Ионии, не сохранили и во Фракии свой характер разумного народа? Однако же результат был обратный. Едва они стали абдеритами, как сразу же выродились. И не то, чтобы они утратили прежнюю живость и превратились в истинных баранов,[19] как упрекает их в этом Ювенал.[20] Их живость лишь приобрела какое-то чудное направление, а их фантазия настолько опередила их разум, что последний уже никогда не мог ее догнать. Идей у них хватало, но только они редко годились для определенных случаев; или же самые блестящие замыслы приходили им в голову слишком поздно, когда подходящий случай уже миновал. Говорили они много, ни минуты не задумываясь над тем, что хотят сказать или желают выразить. Поэтому, открывая рот, они зачастую изрекали какую-нибудь нелепость. К несчастью, эта дурная привычка сказывалась и в их действиях: обычно они захлопывали клетку, когда птичка уже вылетела. Их упрекали поэтому в безрассудности. Но опыт свидетельствует, что, стремясь быть рассудительными, абдериты поступали не лучше. Если они совершали какую-либо глупость (а это случалось нередко) – то из самых лучших побуждений. Если они весьма долго и серьезно совещались по поводу общих дел, то можно было быть уверенным, что изо всех возможных решений они примут наихудшее.
Среди греков они стали притчей во языцех, вошли в поговорки. Абдеритская выдумка, абдеритская затея означала у них то же самое, что у нас глупость шильдбюргеров, а у швейцарцев – лалебюргеров.[21] И добрые абдериты не упускали случая щедро снабжать всяких насмешников и зубоскалов подобными образчиками своей мудрости. Для начала лишь несколько примеров этого. Однажды им пришла в голову мысль, что такой город, как Абдера, непременно должен иметь прекрасный фонтан. Его решили установить посреди большой рыночной площади и, чтобы покрыть издержки по строительству, ввели новый налог. Для изготовления скульптурной группы они пригласили одного известного афинского ваятеля; группа должна была изображать бога моря на колеснице, влекомой четырьмя морскими конями, окруженного тритонами и дельфинами, а из их ноздрей должны были бить мощные водяные струи. Все уже было готово, как вдруг выяснилось, что воды едва хватит, чтобы смочить нос одному-единственному дельфину. И когда фонтан пустили в ход, то казалось, будто все эти кони и дельфины схватили насморк. Желая избежать насмешек, абдериты перенесли всю эту группу в храм Нептуна и всякий раз, показывая ее иностранцам, служитель храма от имени достославного города серьезно сожалел, что такое великолепное произведение искусства невозможно использовать из-за недостатка воды.
В другой раз они приобрели прекрасную статую Венеры из слоновой кости, считавшуюся шедевром Праксителя.[22] Она была высотой приблизительно в пять футов и ее следовало установить на алтаре богини любви. Когда статую привезли, то вся Абдера пришла в восхищение от красоты своей Венеры, ибо абдериты считали себя знатоками и восторженными почитателями искусств. Она слишком прелестна, утверждали они единодушно, чтобы стоять на столь низком месте. Шедевр, приносящий такую честь городу и стоивший таких денег, нужно поднять как можно выше. Это первое, что должно бросаться в глаза иностранцам при въезде в Абдеру. И воодушевленные счастливым замыслом, они установили небольшую чудесную статую на обелиске высотой в восемьдесят футов. И хотя теперь невозможно было разглядеть, что она собой представляет – Венеру или морскую нимфу, – они все же заставляли всех иностранцев соглашаться, что ничего более совершенного не встретишь на свете.

Отрывок из последнего Виландова сочинения: «Эвтаназия, или О жизни после смерти», изданного по случаю странной книги, которая была напечатана в Лейпциге доктором Веделем под названием: «Известие о истинном, двукратном явлении жены моей по смерти».Текст издания: «Вестник Европы», 1808 год, № 6.
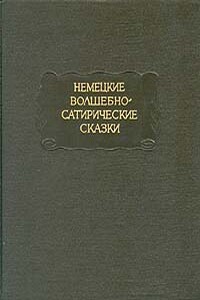
Немецкая волшебно-сатирическая сказка представляет собой своеобразный литературный жанр, возникший в середине XVIII в. в Германии в результате сложного взаимодействия с европейской, прежде всего французской, литературной традицией. Жанр этот сыграл заметную роль в развитии немецкой повествовательной прозы. Начало ему положил К.М. Виланд (1733–1813). Заимствуя традиционный реквизит французской «сказки о феях», Виланд иронически переосмысляет и пародирует ее мотивы, что создает почву для включения в нее философской и социальной сатиры.
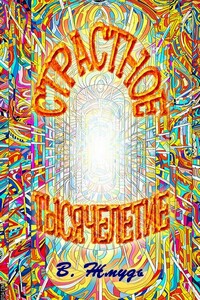
Полифонический роман — вариация на тему Евангелий.Жизнь Иисуса глазами и голосами людей, окружавших Его, и словами Его собственного запретного дневника.На обложке: картина Matei Apostolescu «Exit 13».
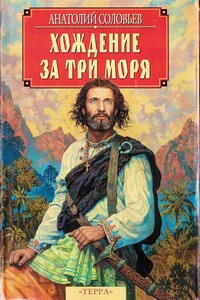
Перед нами не просто художественная интерпретация знаменитого «Хождения за три моря» Афанасия Никитина (1468—1474), но и увлекательное авторское «расследование»: был ли на самом деле Никитин «простым купцом», имея при себе дорожную грамоту от царя Ивана III и заезжая во все «горячие точки» пятивековой давности...
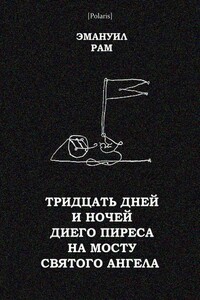
«Тридцать дней и ночей Диего Пиреса» — поэтическая медитация в прозе, основанная на невероятной истории португальского маррана XVI в. Диого Пириша, ставшего лжемессией Шломо Молхо и конфидентом римского папы. Под псевдонимом «Эмануил Рам» выступил врач и психоаналитик И. Великовский (1895–1979), автор неординарных гипотез о древних космических катастрофах.
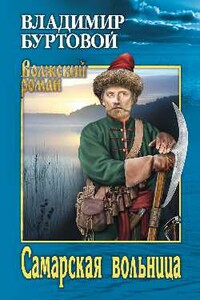
Это первая часть дилогии о восстании казаков под предводительством Степана Разина. Используя документальные материалы, автор воссоздает картину действий казачьих атаманов Лазарьки и Романа Тимофеевых, Ивана Балаки и других исторических персонажей, рассказывая о начальном победном этапе народного бунта.
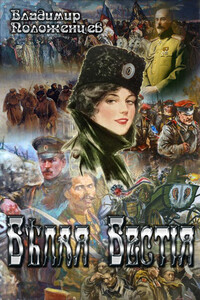
Приключения атаманши отдельной партизанской бригады Добровольческой армии ВСЮР Анны Белоглазовой по прозвищу «Белая бестия». По мотивам воспоминаний офицеров-добровольцев.При создании обложки использованы темы Андрея Ромасюкова и образ Белой Валькирии — баронессы Софьи Николаевны де Боде, погибшей в бою 13 марта 1918 года.
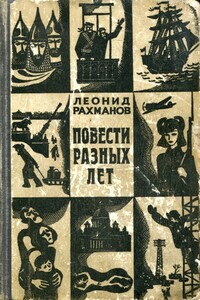
Леонид Рахманов — прозаик, драматург и киносценарист. Широкую известность и признание получила его пьеса «Беспокойная старость», а также киносценарий «Депутат Балтики». Здесь собраны вещи, написанные как в начале творческого пути, так и в зрелые годы. Книга раскрывает широту и разнообразие творческих интересов писателя.