Историческая поэтика русской классической повести - [4]
Поскольку, по словам одного из современных прозаиков, границы повести «размываются… с обоих берегов», то есть со стороны как «больших», так и «малых» эпических форм[42], то нередко отнесение того или иного произведения к жанру повести требует дополнительных аргументаций.
Безусловно, законы «отвердевания» идейного содержания, свойственные повести, являются устойчивыми, «повторяемыми» в произведениях этого литературного вида. Но не меньшую роль в жанрообразовании играют и поиски писателями новых средств «опредмечивания» эстетической концепции действительности. Имея в виду именно это, Л.Н. Толстой писал в статье «Несколько слов по поводу книги «Война и мир»»: «… В новом периоде русской литературы нет ни одного художественного прозаического произведения, немного выходящего из посредственности, которое бы вполне укладывалось в форму романа, поэмы или повести»[43]. «Преодоление» «формальной закрепленности выражения» в жанре повести является чрезвычайно активным фактором его обновления. Некоторые исследователи склонны усматривать в этом даже важный отличительный признак повести.
В связи с тем, что в системе «целого» жанра его «части» (жанрообусловливающие, жанроформирующие и жанрообразующие факторы и жанрообразующие средства) обладают относительной самостоятельностью, развитие повести сопровождается «обособлением» этих «частей», не выводимых друг из друга, но органически взаимосвязанных. Те или иные трансформации на «территории» «частей» (сюжет, характерология, хронотоп и т. д.) ведут к тому, что не только «части», но и «целое» приобретают новое качество. В результате этого логическая непротиворечивость внутренних связей традиционной целостности может «нарушаться». Но это «нарушение» следует рассматривать как проявление новых тенденций в структурировании «смыслового целого»[44]. При этом факторы жанрообусловливания повести («тип проблематики», жанровая концепция человека в его отношении к миру), основные конструктивные принципы, специфика тематического и художественно-завершающего оформления действительности[45] остаются «устойчивыми», сохраняют свои жанровые особенности.
Писатели, критики, литературоведы всегда пытались определить критерии дифференциации повести в ряду других жанров эпической прозы. Это остается актуальным и для современной науки. Совершенно очевидно, что объём текста не может быть определяющим принципом в такого рода типологических исследованиях[46]. Следует исходить из жанровой «концепции человека»>18, из «существенного, предметного, тематического завершения», «тематической ориентации на жизнь» данного жанра, которой обусловлены его специфические способы и средства «видения и понимания действительности»[47].
Именно этими факторами обусловлено жанровое «событие»[48] повести, её устойчивые конструктивные принципы, которыми направляется логика развития жанра. Эта динамика связана с выявлением его внутреннего потенциала, содержательных возможностей данной жанровой структуры, что в конечном счёте определяется потребностями эстетического освоения новых аспектов в отношениях человека к миру, познания самой меняющейся действительности.
Глава I
Жанр как категория теоретической и исторической поэтики
1.1. Современная теория литературного жанра: вопросы методологии и поэтики
Процесс изучения проблем органической целостности повести как жанра значительно осложняется тем, что жанрология относится к числу дискуссионных литературоведческих проблем. Это область науки не столько наименее разработанная, как принято считать, сколько плюралистичная по характеру концепций и аргументаций, нередко противоречащих друг другу. Одни и те же понятия, причём такие основополагающие, как «жанр», «вид», «жанровое содержание», «жанровая форма», «жанровая норма», «жанровая доминанта», «жанровый тип», «жанровые разновидности», «жанроформирующие», «жанрообразующие факторы» и др., нередко трактуются по-разному как в смысловом, так и в функциональном отношениях. Одни теоретики практически отождествляют «род» и «жанр» или «вид» и «жанр»[49]; другие рассматривают лишь такую бинарную систему, как «род – жанр»[50]; третьи трактуют жанр как «одну из форм бытования, существования рода литературы», понимают связь рода и жанра как соотношение «сущности и явления» или рода – вида – жанра как соотношения от общего к частному[51]; четвертые, констатируя факт существования противоположных тенденций, – «к универсализации наиболее характерной особенности одной из «родовых» структур и к уяснению общей для них всех многомерной модели «произведения как такового»», актуализируют проблему различения родовых и жанровых инвариантных структур[52]; пятые акцентируют внимание на вопросах особенностей раскрытия в жанрах родового «содержания»[53].
«Роман», «повесть», «рассказ» и т. д. во многих теоретических и историко-литературных исследованиях рассматриваются как «жанры»[54], в работах М.М. Бахтина, А.Я. Эсалнек – как «жанровые типы»[55], а в учебных пособиях Г.Н. Поспелова, О.И. Федотова – как «жанровые или литературные формы рода»[56]. Если Г.Н. Поспелов, Ю.В. Стенник и др., характеризуя «роман», «повесть», «рассказ» и т. д., различают понятия «жанр» и «жанровая форма»
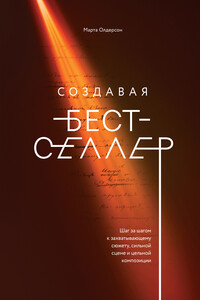
Что отличает обычную историю от бестселлера? Автор этой книги и курсов для писателей Марта Олдерсон нашла инструменты для настройки художественных произведений. Именно им посвящена эта книга. Используя их, вы сможете создать запоминающуюся историю.
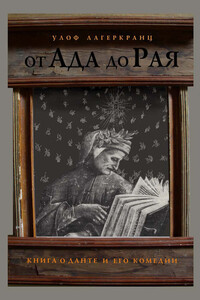
Герой эссе шведского писателя Улофа Лагеркранца «От Ада до Рая» – выдающийся итальянский поэт Данте Алигьери (1265–1321). Любовь к Данте – человеку и поэту – основная нить вдохновенного повествования о нем. Книга адресована широкому кругу читателей.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Сюжет новой книги известного критика и литературоведа Станислава Рассадина трактует «связь» государства и советских/русских писателей (его любимцев и пасынков) как неразрешимую интригующую коллизию.Автору удается показать небывалое напряжение советской истории, сказавшееся как на творчестве писателей, так и на их судьбах.В книге анализируются многие произведения, приводятся биографические подробности. Издание снабжено библиографическими ссылками и подробным указателем имен.Рекомендуется не только интересующимся историей отечественной литературы, но и изучающим ее.

Оригинальное творчество Стендаля привлекло внимание в России задолго до того, как появился его первый знаменитый роман – «Красное и черное» (1830). Русские журналы пушкинской эпохи внимательно следили за новинками зарубежной литературы и периодической печати и поразительно быстро подхватывали все интересное и актуальное. Уже в 1822 году журнал «Сын Отечества» анонимно опубликовал статью Стендаля «Россини» – первый набросок его книги «Жизнь Россини» (1823). Чем был вызван интерес к этой статье в России?Второе издание.

В 1838 году в третьем номере основанного Пушкиным журнала «Современник» появилась небольшая поэма под названием «Казначейша». Автором ее был молодой поэт, чье имя стало широко известно по его стихам на смерть Пушкина и по последующей его драматической судьбе — аресту, следствию, ссылке на Кавказ. Этим поэтом был Михаил Юрьевич Лермонтов.