Историческая поэтика русской классической повести - [15]
Антропологическая традиция бахтинской эпистемологии закрепляла представление о писателе, который, объективируясь в сфере философского размышления, сохраняет «бытие, ценное помимо предстоящего смысла события, самим конкретным многообразием своей наличности»[174]. Особенности эстетического М.М. Бахтин усматривал в том, что «опознанная и оценённая поступком действительность входит в произведение (точнее – в эстетический объект) и становится здесь необходимым конститутивным моментом. В этом смысле, – писал учёный, – мы можем сказать: действительность, жизнь находится не только вне искусства, но и в нём, внутри его, во всей полноте своей ценностной весомости: социальной, политической, познавательной и иной»[175]. Вводя понятие системы в область онтологии, М.М. Бахтин интегрировал идею «теоретической» рациональности и «человеческих смыслов», в результате чего не оказались по разные стороны «познание» и «этический поступок», истина и нравственно-эстетические ценности, иначе говоря, антропный фактор не оказался за рамками эпистемологии. Понятие-образ «поступок» стал средоточием такого единства: «…поступок в его целостности более чем рационален – он ответственен. Рациональность только момент ответственности»[176].
Поскольку теоретизированная модель познания (система) входит органично в познание в целом, представляющее собой этический «поступок ответственно мыслящего участного сознания» («поступок мыслью»), то эпистемологическая концепция жанра непосредственно нацелена на выявление его онтологии понимания, его гносеологической природы и когнитивного потенциала; когда же объектом исследования становится познание в целом (а не только его теоретизированная модель), «поступок мыслящего участного сознания» рассматривается прежде всего в свете бытийных, а не когнитивных характеристик[177]. В эпистемологии М.М. Бахтина «субъект относится к объекту через систему ценностей или коммуникативных отношений и сам предстаёт в двуединости «Я и Другой», «автор и герой», и уж если противостоит объекту, то только в таком качестве»[178]. Тем самым М.М. Бахтин вводил в эпистемологию и понятие историчности[179]: изменение художественного познания во времени фиксировалось жанрологическими понятиями «нов», «не тот», а сохраняющийся понимающий потенциал и конструктивный принцип его «архаики» – понятиями «стар», «тот». В категории «архитектонической целостности» и оформилась мысль о том, что жанр «всегда тот и не тот, всегда и стар и нов одновременно»[180]. С точки зрения жанрообусловливания, детерминации типом проблематики «сущности и объёма самого содержания» произведения, бытие жанра и заключается в художественном понимании. Говоря словами П. Рикёра, это бытие, которое существует, понимая[181] (чем жанр и отличается от литературного вида – абстрагированно-типологической «схемы» жанра). «Адресованностью» жанрового «высказывания» обусловлена специфичность объективации его «понимающего бытия»: оно предполагает диалог автора и рецепиента. «Понимание, – писал М.М. Бахтин в статье «Проблема текста», – всегда в какой-то мере диалогично». «При объяснении – только одно сознание, один субъект, – продолжал ученый, – при понимании – два сознания, два субъекта»[182].
Онтология понимания жанра (заданная концепцией человека в его отношении к миру, в свою очередь, определяющей «формы видения и понимания… действительности, определённые степени широты охвата и глубины произведений»[183]) «одушевляет» его эпистемологию. М.М. Бахтин на первый план выдвинул «видение и понимание» действительности, а на второй – познавательные качества жанра. С этой точки зрения, например, «Былое и думы» А.И. Герцена можно рассматривать в литературоведческих категориях с точки зрения познавательного качества жанровой структуры «нового эстетического предмета» («исповеди» А.И. Герцена), обусловленной романной – в принципе – жанровой проблематикой. Благодаря этому произведение, подобно беллетристическим, существует, понимая (а не просто фиксирует и описывает события, как это происходит в мемуаристике или любых других первичных формах словесно организованного повествования).
Жанрологические работы М.М. Бахтина позволяют сделать вывод о том, что он как метод рассматривал эпистемологические принципы интерпретации, но не онтологию понимания. В теории жанровой «архаики» и «памяти жанра» М.М. Бахтина актуализирована не столько идея «оформляющего понимания» (это уже сфера жанроформирования, а не жанрообусловливания), сколько «духовность» жанра, то есть идея «видения, понимания» как такового,
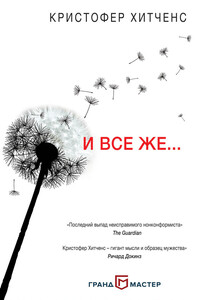
Эта книга — посмертный сборник эссе одного из самых острых публицистов современности. Гуманист, атеист и просветитель, Кристофер Хитченс до конца своих дней оставался верен идеалам прогресса и светского цивилизованного общества. Его круг интересов был поистине широк — и в этом можно убедиться, лишь просмотрев содержание книги. Но главным коньком Хитченса всегда была литература: Джордж Оруэлл, Салман Рушди, Ян Флеминг, Михаил Лермонтов — это лишь малая часть имен, чьи жизни и творчество стали предметом его статей и заметок, поражающих своей интеллектуальной утонченностью и неповторимым острым стилем. Книга Кристофера Хитченса «И все же…» обязательно найдет свое место в библиотеке истинного любителя современной интеллектуальной литературы!

Много «…рассказывают о жизни и творчестве писателя не нашего времени прижизненные издания его книг. Здесь все весьма важно: год издания, когда книга разрешена цензурой и кто цензор, кем она издана, в какой типографии напечатана, какой был тираж и т. д. Важно, как быстро разошлась книга, стала ли она редкостью или ее еще и сегодня, по прошествии многих лет, можно легко найти на книжном рынке». В библиографической повести «…делается попытка рассказать о судьбе всех отдельных книг, журналов и пьес И.
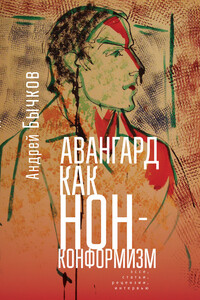
Андрей Бычков – один из ярких представителей современного русского авангарда. Автор восьми книг прозы в России и пяти книг, изданных на Западе. Лауреат и финалист нескольких литературных и кинематографических премий. Фильм Валерия Рубинчика «Нанкинский пейзаж» по сценарию Бычкова по мнению авторитетных критиков вошел в дюжину лучших российских фильмов «нулевых». Одна из пьес Бычкова была поставлена на Бродвее. В эту небольшую подборку вошли избранные эссе автора о писателях, художниках и режиссерах, статьи о литературе и современном литературном процессе, а также некоторые из интервью.«Не так много сегодня художественных произведений (как, впрочем, и всегда), которые можно в полном смысле слова назвать свободными.

Работа Б. Л. Фонкича посвящена критике некоторых появившихся в последние годы исследований греческих и русских документов XVII в., представляющих собой важнейшие источники по истории греческо-русских связей укатанного времени. Эти исследования принадлежат В. Г. Ченцовой и Л. А. Тимошиной, поставившим перед собой задачу пересмотра результатов изучения отношений России и Христианского Востока, полученных русской наукой двух последних столетий. Работы этих авторов основаны прежде всего на палеографическом анализе греческих и (отчасти) русских документов преимущественно московских хранилищ, а также на новом изучении русских документальных материалов по истории просвещения России в XVII в.
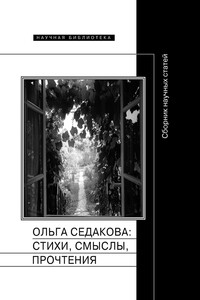
Эта книга – первый сборник исследований, целиком посвященный поэтическому творчеству Ольги Седаковой. В сборник вошли четырнадцать статей, базирующихся на различных подходах – от медленного прочтения одного стихотворения до широких тематических обзоров. Авторы из шести стран принадлежат к различным научным поколениям, представляют разные интеллектуальные традиции. Их объединяет внимание к разнообразию литературных и культурных традиций, важных для поэзии и мысли Седаковой. Сборник является этапным для изучения творчества Ольги Седаковой.

«Сказание» афонского инока Парфения о своих странствиях по Востоку и России оставило глубокий след в русской художественной культуре благодаря не только резко выделявшемуся на общем фоне лексико-семантическому своеобразию повествования, но и облагораживающему воздействию на души читателей, в особенности интеллигенции. Аполлон Григорьев утверждал, что «вся серьезно читающая Русь, от мала до велика, прочла ее, эту гениальную, талантливую и вместе простую книгу, — не мало может быть нравственных переворотов, но, уж, во всяком случае, не мало нравственных потрясений совершила она, эта простая, беспритязательная, вовсе ни на что не бившая исповедь глубокой внутренней жизни».В настоящем исследовании впервые сделана попытка выявить и проанализировать масштаб воздействия, которое оказало «Сказание» на русскую литературу и русскую духовную культуру второй половины XIX в.