Исповедь - [4]
Не поднимая головы, отрывисто и нехотя он повторил за монахом покаянную молитву, а потом начал рассказывать о своих грехах, то есть о своем гайдучестве и своей жизни с тех пор, как себя помнил. Временами он понижал голос, а порой и совсем умолкал в надежде, что о чем-то монах догадается сам. Фра Марко, хотя в глазах у него застило и в горле стоял ком, помогал ему, подбадривал словами, жестами и мимикой. В конце концов, забыв о себе, он почти влез в пещеру и приник ухом к лицу Роши. Казалось, всю пещеру заполнило одно скрюченное тело.
Но вот Роша зашептал громче и торопливей. Он так спешил, точно сам у себя вырывал признания, которые хотел бы по возможности ускорить, раз нельзя умолчать о грехах. В груди у него страшно клокотало. Фра Марко, напрягшись как охотник, ловил невнятный шепот гайдука.
Вдруг монах поднял голову и отпрянул от Роши. Не выдержав, он повернулся к выходу и, уцепившись за края пещеры, жадно хватал ртом воздух. Лицо его пожелтело, тело покрылось потом, быстро холодевшим на морозе. Грубое мужицкое лицо монаха совершенно преобразил какой-то новый взгляд – неподвижный и немного косой от страха, недоумения и бессильной жалости.
Он жадно вдыхал свежий воздух, глядя в одну точку широко раскрытыми, невидящими глазами. Придя в себя, он вернулся к умирающему и склонился над ним, словно хотел прикрыть его своим телом. Исповедь продолжалась. Но фра Марко то и дело отворачивался от гайдука, обращая испуганное лицо к отверстию – казалось, он хотел бежать от того, что слышал, жаждал помощи и совета, просил кого-то наставить его, вразумить и вывести на путь истинный. Но каждый раз взгляд его встречал серое небо и мертвый зимний пейзаж.
Сделав последнее, самое тяжелое признание, Роша замолчал. Слышался только его равномерный хрип. Фра Марко едва удалось уговорить его повторить за ним несколько слов покаяния: «От всего сердца каюсь в этих и во всех других своих грехах…» Потом монах отодвинулся от него и, решительно взмахнув рукой, осенил крестным знамением вход в пещеру, благословляя того, кто был в ней, и дал гайдуку „отпущение грехов». На прощание фра Марко уверил его, что принесет ему причастие и что милость божья, которую он вновь обрел, будет витать над ним и хранить его. Гайдук не пошевелился, лишь слабо махнул рукой.
– Пусть делает со мной, что хочет!
Фра Марко, слишком усталый и потрясенный для того, чтобы вступать с Рошей в новый спор, еще раз посоветовал ему не терять веры в божье милосердие. А потом, тяжело дыша и дрожа от холода – пот на нем быстро стыл, с трудом выбрался на дорогу, где его ждал Лёлё.
Войдя в грязный и жалкий домишко Лёлё, фра Марко упал на табурет, жалобно заскрипевший под ним. Он вытянул ноги и опустил руки, как бы весь отдавшись давно мучившей его усталости. Лёлё, поминутно извиняясь, принес большую миску сыворотки, немного толченой брынзы, две головки лука и ломоть кукурузного хлеба. Фра Марко, почти не меняя позы, взял миску и стал пить. Он пил долго и шумно, грудь его высоко вздымалась, в тишине слышалось его тяжелое дыхание и бульканье сыворотки. Крестьянин, скрестив руки, стоял у очага и недоуменно смотрел то на монаха, то перед собой. Наконец монах оторвался от миски, и, переводя дух, машинально протянул ее Лёлё. Он долго утирал усы, а потом принялся за брынзу, лук и хлеб, который уплетал с таким наслаждением и жадностью, будто весь день проработал на гумне. Он даже вспотел, хотя в доме было холодно. Временами фра Марко переставал жевать и, устремив в пространство ничего не выражающий взгляд, сидел в оцепенении, пока крестьянин каким-нибудь образом не отвлекал его от размышлений. Тогда он снова с жадностью накидывался на еду. Наконец, утолив голод и напоследок еще выпив сыворотки, он шумно перекрестился и снова оцепенел. Крестьянин кашлял, раздувал огонь, зевал, поминал бога, но заговорить с монахом не осмеливался. Он не решался даже закурить, хотя непрестанно вытряхивал трубку, постукивая ею об опанок.
И так, почти без слов, тронулись они в путь – монах в город, а крестьянин с крынкой молока в пещеру. У скалы, где дороги их расходились, монах сел на лошадь, а крестьянин, понурив голову, свернул в сторону.
– Благослови, отец!
– Бог благословит тебя!
Быстро и неслышно спускался крестьянин по каменистой осыпи. Вдруг он остановился, глянул вниз, повернулся к дороге и закричал:
– Отче!
Монах, не успевший далеко отъехать, остановился и ждал его, не сходя с лошади; потом, обменявшись с ним несколькими словами, спешился, привязал лошадь к дереву и начал спускаться вслед за крестьянином. На полпути к пещере крестьянин остановился и показал рукой: глубоко под ними, над самым потоком, на причудливо изогнутом дереве висел Иван Роша. Лёлё и фра Марко узнали его по серому плащу. Однако решили, что Лёлё все-таки следует заглянуть в пещеру. Пещера оказалась пустой. Теперь уже не могло быть никаких сомнений в том, что возле ручья висит Роша. Скала была почти неприступна. Лёлё сделал большой крюк, пока отыскал пологий склон, поросший кустарником. Оттуда он вдоль ручья спустился к пещере и, цепляясь за пни и корни, выбрался на берег. Монах видел, как он осматривает гайдука и жестами показывает, что все кончено. Фра Марко довольно долго сидел на камне, подперев голову ладонями. Наконец сверху послышались шаги Лёлё. Крестьянин совсем растерялся. Дело было ясным и очевидным. Предчувствуя скорую смерть, которая у сильных натур вызывает желание куда-то бежать, Роша, вероятно, встал и попытался спуститься к ручью. Однако, полуослепший от лихорадки, он не углядел кручи, отделявшей его от ручья, или же просто переоценил свои силы, сорвался и зацепился за молодую осину. Дерево под тяжестью его тела не сломалось, а только согнулось, и он повис на середине голого ствола. Большой воротник серого плаща завернулся и накрыл ему голову, и если б не почерневшие руки и огромные ноги в опанках, можно было б подумать, что кто-то развесил здесь плащ для просушки. Тут его и настигла смерть.
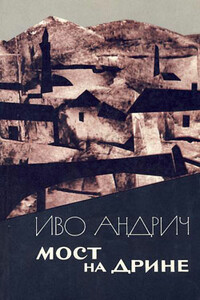
«Мост на Дрине» – это песнь о родине, песнь о земле, на которой ты родился и на которой ты умрешь, песнь о жизни твоей и твоих соотечественников, далеких и близких. Это – одно из самых глубоких и своеобразных произведений мировой литературы XX века, где легенды и предания народа причудливо переплетаются с действительными, реальными событиями, а герои народных сказаний выступают в одном ряду с живыми, конкретно существовавшими людьми, увиденными своим современником.В октябре 1961 года Шведская Академия присудила роману «Мост на Дрине» Нобелевскую премию.
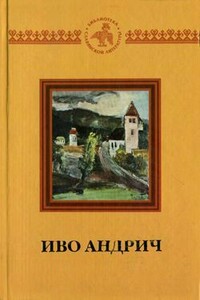
В том выдающегося югославского писателя, лауреата Нобелевской премии, Иво Андрича (1892–1975) включены самые известные его повести и рассказы, созданные между 1917 и 1962 годами, в которых глубоко и полно отразились исторические судьбы югославских народов.
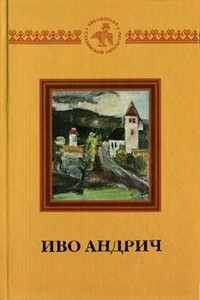
В том выдающегося югославского писателя, лауреата Нобелевской премии, Иво Андрича (1892–1975) включены самые известные его повести и рассказы, созданные между 1917 и 1962 годами, в которых глубоко и полно отразились исторические судьбы югославских народов.

В первый том Собрания сочинений выдающегося югославского писателя XX века, лауреата Нобелевской премии Иво Андрича (1892–1975) входят повести и рассказы (разделы «Проклятый двор» и «Жажда»), написанные или опубликованные Андричем в 1918–1960 годах. В большинстве своем они опираются на конкретный исторический материал и тематически группируются вокруг двух важнейших эпох в жизни Боснии: периода османского владычества (1463–1878) и периода австро-венгерской оккупации (1878–1918). Так образуются два крупных «цикла» в творчестве И.
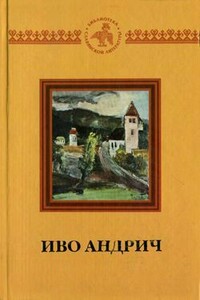
В том выдающегося югославского писателя, лауреата Нобелевской премии, Иво Андрича (1892–1975) включены самые известные его повести и рассказы, созданные между 1917 и 1962 годами, в которых глубоко и полно отразились исторические судьбы югославских народов.
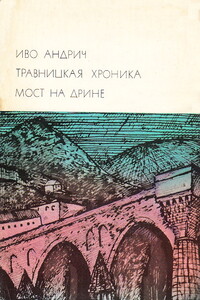
Трагическая история Боснии с наибольшей полнотой и последовательностью раскрыта в двух исторических романах Андрича — «Травницкая хроника» и «Мост на Дрине».«Травницкая хроника» — это повествование о восьми годах жизни Травника, глухой турецкой провинции, которая оказывается втянутой в наполеоновские войны — от блистательных побед на полях Аустерлица и при Ваграме и до поражения в войне с Россией.«Мост на Дрине» — роман, отличающийся интересной и своеобразной композицией. Все события, происходящие в романе на протяжении нескольких веков (1516–1914 гг.), так или иначе связаны с существованием белоснежного красавца-моста на реке Дрине, построенного в боснийском городе Вышеграде уроженцем этого города, отуреченным сербом великим визирем Мехмед-пашой.Вступительная статья Е.
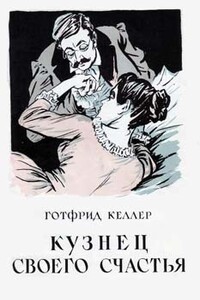
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
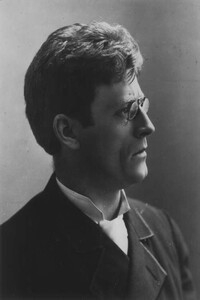
Кнут Гамсун (настоящая фамилия — Педерсен) родился 4 августа 1859 года, на севере Норвегии, в местечке Лом в Гюдсбранндале, в семье сельского портного. В юности учился на сапожника, с 14 лет вел скитальческую жизнь. лауреат Нобелевской премии (1920).Имел исключительную популярность в России в предреволюционные годы. Задолго до пособничества нацистам (за что был судим у себя в Норвегии).

(Genlis), Мадлен Фелисите Дюкре де Сент-Обен (Ducrest de Saint-Aubin; 25.I.1746, Шансери, близ Отёна, — 31.XII.1830, Париж), графиня, — франц. писательница. Род. в знатной, но обедневшей семье. В 1762 вышла замуж за графа де Жанлис. Воспитывала детей герцога Орлеанского, для к-рых написала неск. дет. книг: «Воспитательный театр» («Théâtre d'éducation», 1780), «Адель и Теодор» («Adegrave;le et Théodore», 1782, рус. пер. 1791), «Вечера в замке» («Les veillées du château», 1784). После казни мужа по приговору революц. трибунала (1793) Ж.
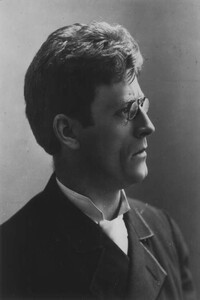
Кнут Гамсун (настоящая фамилия — Педерсен) родился 4 августа 1859 года, на севере Норвегии, в местечке Лом в Гюдсбранндале, в семье сельского портного. В юности учился на сапожника, с 14 лет вел скитальческую жизнь. лауреат Нобелевской премии (1920).Имел исключительную популярность в России в предреволюционные годы. Задолго до пособничества нацистам (за что был судим у себя в Норвегии).
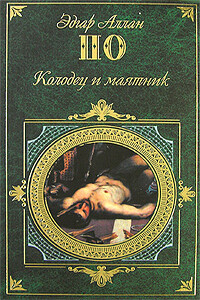
Семеро друзей веселились, безумствовали и пили вино, рядом лежал восьмой. Он не пил и не веселился, его — одного из многих, одного из многих их друзей — забрала чума.А потом пришла Тень...
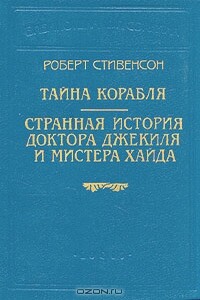
В романе «Тайна корабля» описывается полная приключений жизнь Додда Лоудона, которого судьба привела на борт потерпевшего крушение брига «Летучее облако», якобы нагруженного контрабандным опиумом. Лоудон не находит на судне ни опиума, ни сокровищ, но зато раскрывает жуткую тайну гибели корабля и его экипажа.В повести «Странная история доктора Джекиля и мистера Хайда» рассказывается об удивительном открытии доктора Джекиля, которое позволяет герою вести двойную жизнь: преступника и негодяя в обличье Эдуарда Хайда и высоконравственного ученого-в собственном обличье.