Искусство однобокого плача - [3]
Я уже сижу на влажной после дождя траве. Этот сумасшедший еще и на колени вздумал броситься, нельзя же… Положим, и мне бы не след так с перепугу плюхаться в болото, вот, извольте, джинсы на заду промокли… Ничего-ничего! Сейчас ты попробуешь дать волю рукам, весь этот фейерверк объяснится простейшим образом, тут уж я тебе покажу “последний шанс”! А он, похоже, и не помнит, что у него есть руки — вдруг замер и онемел, точно перед богиней. И я в смятении отвожу глаза, разжимаю ладонь, на ней крошечный масленок, раздавленный. Ну да, я ж наклонилась сорвать гриб, тут он и заговорил, надо же, как стиснула… забыла…
И понеслось. Преображенные недели. Месяцы. Годы. Нежная, смешная легкость всего, что было трудно. Все лучшее, что есть в дружбе и страсти. Можно пройти над жизнью, как по радуге, — только и надо, что не разнимать рук…
Наши лесные костры, бесконечные разговоры, пьянящее любование собой и друг другом, наши пирушки вдвоем в убогих привокзальных пельменных и в приятельском кругу, где было так сладко встречаться глазами — мимо всего и всех. Так взирают избранники судьбы, знающие нечто, прочим недоступное…
И другие, позднейшие кадры. Как потом, понемногу, едва уловимо, ответный взгляд становился уклончивым, тон — небрежным, остроты и замечания делались погрубей, а я знай уговаривала себя, что это бред, он просто вымотался, нет, не только он, мы оба… надо отдохнуть, вот и все… я постыдно мнительна, так и норовлю сотворить из мухи слона, недуг врожденный, от отца, что же я делаю, этому нельзя давать волю… Да и он, стоило мне вспылить, поначалу пугался, душил в объятиях, уверяя, что пошутил, вообще не говорил такого, да если бы и ляпнул, как можно принять подобную чушь всерьез, он меня не узнает, нет, быть не может, я тоже шучу, он отказывается верить, неужто я хоть на минуту могла допустить…
— Пиу! Пиу! Пиу!
Пожалуй, кстати, что эта скотинка орет. Только бы родители не услышали, как я выбираюсь из-под одеяла, напяливаю халат, шаркаю к окну. Хорошенькое будет дело, если мама догадается, что я не сплю, заглянет в комнату и, включив свет, увидит мою распухшую красную рожу! Покойная бабушка сказала бы: “Не оскорбляй образа и подобия Божия…” Довольно того, что наперекор моей в узком кругу легендарной выдержке все, кому не лень, преблагополучно сообразили, что мне паршиво, куда паршивее, чем должно быть еще не старой, не обремененной потомством, самостоятельной даме, по собственной инициативе уходящей от мужа, который, положим, и “милашка”, и “умница”, но “выпивает”. Так выглядит со стороны наша мировая катастрофа.
Мои немногочисленные подруги, те еще осведомлены о его неверности. Тут он сам постарался. То одна, то другая является ко мне в смущении, исполненная пылкого, ненужного сочувствия, за которым однако же — они хорошие, но человек слаб, — сквозит удовольствие женской победы: “Я сомневалась, стоит ли… но между нами не должно быть умолчаний… твой Скачков, он приходил… правда, под хмельком, может, поэтому… говорил, что давно чувствует ко мне… ну, красиво выразиться он всегда умел, ты-то знаешь, такой льстец, противно слушать… никогда бы не подумала, что тебя можно променять на кого бы то ни было… и как вообразить, что я соглашусь… нет, я уверена, он и теперь любит только тебя, не даром же мы все так завидовали вашему роману… ох, прости, я дура, что об этом сейчас, но все так неожиданно… Да, о тебе он тоже говорил… свинство, конечно… ну, сказал, что ему с тобой стало трудно, нет “страшно”, он так выразился… “женщина не должна все понимать, видеть тебя насквозь, это даже противоестественно, тут ведь главное, чтобы было кому по головке погладить, когда надо, а это тягостно, это перебор…” Нет, не подумай, все очень почтительно… и каждому же ясно: стоит тебе захотеть, он никуда не денется… иногда ведь приходится за мужчину бороться, даже при твоей гордости…”
Первую — последующие были уже не страшны — такую исповедь я выслушала в метро, на платформе “Лермонтовская”. Поезда грохотали, заглушая речь собеседницы, да и она запиналась, все спрашивала, не зря ли, не хватит ли.
— Нет-нет, не беспокойся. Я тебе благодарна. Что? Бороться? Нет, это исключено.
Мешали стены. И пол. Первые утратили былую вертикальность, второй стал не вполне горизонтален. Я все пыталась вправить их на место. Это почему-то казалось важным.
— Совестно передо мной? Тебе? С какой стати? Это же хорошо, это истина воссияла, надо радоваться… Что? Врал? Спьяну? Возможно. Меня это больше не касается. Это касается тебя. Если все же не врал и тебе это не совсем безразлично, действуй.
— С ума сошла? И потерять тебя?
— Только на время. Мне, правда, придется на какой-то срок лечь на дно, ты мне это простишь, а потом мы все уладим…
Ничего мы не уладим. Если так, они прекрасно обойдутся без меня. Но сейчас надо, чтобы Аська мне поверила… и чтобы эти чертовы буквы на стене перестали прыгать перед глазами.
У нее черная полоса. Научные планы рухнули. Их можно осуществить, только оставшись в Москве — проблема талантливых провинциалов, принужденных, поблистав в университете, возвращаться в свой Клин, Льгов, Йошкар-Олу, где их знания никому не нужны. Анастасия, литературовед милостью Божьей, в родном городе обречена, ни на шаг не отступая от школьной программы, у черной доски долдонить зевающим подросткам про то, как Пушкин несмотря на свою ограниченность, порожденную незнакомством с марксистско-ленинскими идеями, кое-что все же “ярко отобразил”, Лермонтов “гневно обличил”, а Толстой “страстно провозглашал”. Не хочешь? Иди расставлять запятые и выправлять падежи в документах какого-нибудь НИИ сельхозмашиностроения! Я-то и здесь угодила в подобную дыру, мне поделом, никогда не делала ставки на науку, хотя, как начинаю догадываться, зря. Но для Аси это крах, хуже и вообразить трудно. А тут еще любовник сбежал. Женатый был, вернулся в семейственное лоно. Виктор знал об ее несчастьях больше, чем ему полагалось. Знал по моей вине. Роман, не говоря уж о шансе закрепиться в Москве, сейчас был бы для нее не спасением. Вот он и бросил потешный спасательный круг. Из картона. Это непоправимо. Куда непоправимее, чем обычная измена.

Литературный критик и переводчик, Ирина Васюченко получила известность и как яркий, самобытный прозаик, автор повестей «Лягушка в молоке», «Автопортрет со зверем», «Искусство однобокого палача» и романов «Отсутственное место» и «Деточка» (последний вышел в «Тексте» в 2008 г.).Действие романа «Голубая акула» происходит в конце прошлого — начале нынешнего столетия. Его герой, в прошлом следователь, а после революции — скромный служащий, перебирающий никому не нужные бумаги, коротает одинокие вечера за писанием мемуаров, восстанавливая в памяти события своей молодости — таинственную историю одного расследования, на которое его подвигнула страстная любовь.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

УДК 821.161.1-1 ББК 84(2 Рос=Рус)6-44 М23 В оформлении обложки использована картина Давида Штейнберга Манович, Лера Первый и другие рассказы. — М., Русский Гулливер; Центр Современной Литературы, 2015. — 148 с. ISBN 978-5-91627-154-6 Проза Леры Манович как хороший утренний кофе. Она погружает в задумчивую бодрость и делает тебя соучастником тончайших переживаний героев, переданных немногими точными словами, я бы даже сказал — точными обиняками. Искусство нынче редкое, в котором чувствуются отголоски когда-то хорошо усвоенного Хэмингуэя, а то и Чехова.
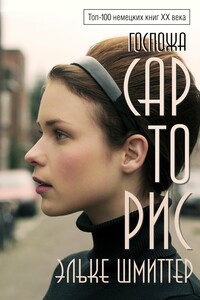
Поздно вечером на безлюдной улице машина насмерть сбивает человека. Водитель скрывается под проливным дождем. Маргарита Сарторис узнает об этом из газет. Это напоминает ей об истории, которая произошла с ней в прошлом и которая круто изменила ее монотонную провинциальную жизнь.
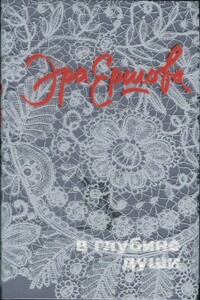
Вплоть до окончания войны юная Лизхен, работавшая на почте, спасала односельчан от самих себя — уничтожала доносы. Кто-то жаловался на неуплату налогов, кто-то — на неблагожелательные высказывания в адрес властей. Дядя Пауль доносил полиции о том, что в соседнем доме вдова прячет умственно отсталого сына, хотя по законам рейха все идиоты должны подлежать уничтожению. Под мельницей образовалось целое кладбище конвертов. Для чего люди делали это? Никто не требовал такой животной покорности системе, особенно здесь, в глуши.

Роман представляет собой исповедь женщины из народа, прожившей нелегкую, полную драматизма жизнь. Петрия, героиня романа, находит в себе силы противостоять злу, она идет к людям с добром и душевной щедростью. Вот почему ее непритязательные рассказы звучат как легенды, сплетаются в прекрасный «венок».

Андрей Виноградов – признанный мастер тонкой психологической прозы. Известный журналист, создатель Фонда эффективной политики, политтехнолог, переводчик, он был председателем правления РИА «Новости», директором издательства журнала «Огонек», участвовал в становлении «Видео Интернешнл». Этот роман – череда рассказов, рождающихся будто матрешки, один из другого. Забавные, откровенно смешные, фантастические, печальные истории сплетаются в причудливый неповторимо-увлекательный узор. События эти близки каждому, потому что они – эхо нашей обыденной, но такой непредсказуемой фантастической жизни… Содержит нецензурную брань!

Эзра Фолкнер верит, что каждого ожидает своя трагедия. И жизнь, какой бы заурядной она ни была, с того момента станет уникальной. Его собственная трагедия грянула, когда парню исполнилось семнадцать. Он был популярен в школе, успешен во всем и прекрасно играл в теннис. Но, возвращаясь с вечеринки, Эзра попал в автомобильную аварию. И все изменилось: его бросила любимая девушка, исчезли друзья, закончилась спортивная карьера. Похоже, что теория не работает – будущее не сулит ничего экстраординарного. А может, нечто необычное уже случилось, когда в класс вошла новенькая? С первого взгляда на нее стало ясно, что эта девушка заставит Эзру посмотреть на жизнь иначе.