Искусство кройки и житья. История искусства в газете, 1994–2019 - [7]
Третий, самый многообещающий пункт программы – история мифа «Сикстинской Мадонны» в разных видах искусства, при этом кураторы делают акцент не на больших именах, а скорее на массовой романтической истерии перед самим полотном и бидермайеровском использовании образа во всех мыслимых ипостасях: от обязательных зарисовок в блокнотах путешественника и на сотнях обложек журналов до карикатур, вышивок, ковриков и тарелочек. Наступивший ХX век увлечение это вроде бы пригасил, но, по мнению кураторов, новый виток мифотворчества вокруг «Сикстинской Мадонны» пришелся на драматическую историю ее вывоза в СССР в 1945‐м и возвращение в Дрезден через десять лет. Изложение этой истории попахивает пропагандой с обеих сторон, и тут действительно есть с чем поработать. Абсолютный катарсис ждет зрителей этой части выставки при созерцании полотна советского живописца Михаила Корнецкого 1984–1985 годов создания «Спасение „Сикстинской Мадонны“» из рижского музея. Солдат раненый и солдат здоровый обрамляют сидящую перед картиной с огромной лупой в руке женщину в надетом на военную форму белом халате – ненавязчивая такая отсылка к рафаэлевскому композиционному треугольнику, делающая патетический сюжет гомерически смешным.
Отдельного разговора удостоились два ангела в нижней части именитого шедевра. Их выудили из общей композиции почти сразу, как ее саму поголовно полюбили – на рубеже XVIII–XIX веков. И тут же пустили в оборот – сладкие малютки гуляли и гуляют до сих пор с картины в картину, с открытки на открытку, с блюдечка на ложечку и достойны звания легенды китча едва ли не больше, чем сама «Сикстинская Мадонна».
Роскошная, прямо скажем, история сочинена немецкими кураторами к юбилею дрезденской Девы. Однако что немцу хорошо, то русскому – тоска. Ну что нам их бидермайер с его писками и визгами перед Рафаэлем, когда у нас самих был создан такой культ «Сикстинской Мадонны», что от рефлексий по ее поводу не отвязаться до сих пор. В России, как водится, и Рафаэль – больше чем Рафаэль. По нему, как по лакмусовой бумажке, проходят границы стилей и моды на идеи, личных страстей и общественных воззрений. Европа «Сикстинскую Мадонну» ценила, Россия ее обожала. Геополитическая составляющая тут, конечно, чрезвычайно важна: Дрезден – почти обязательная остановка на пути из столиц Российской империи в Европу. Наш grand tour чуть ли не начинался именно в Дрездене и именно с осмотра Дрезденской галереи. Нет ни одного из оставивших путевые записки сколько-нибудь художественно ориентированного русского путешественника конца XVIII – XIX века, не описавшего посещение этого собрания. И какие бы иные картины ни обращали на себя внимание авторов этих травелогов, «Сикстинская Мадонна» в них есть всегда. По именам вознесенных на тот или иной индивидуальный олимп художников можно судить о вкусах эпохи. По оценкам, данным рафаэлевской Мадонне, стоит говорить об идеалах.
Одним из первых был Карамзин. За ним много и пылко писали о галерее и Мадонне в ней Жуковский и Кюхельбекер. Писал посреди наполеоновского похода Федор Глинка. Писали Брюллов, Александр Иванов, Герцен, Огарев, Белинский, Фет, Толстой, Гончаров, Поленов, Крамской, Стасов, Репин, Суриков, Достоевский, наконец. Писал, как вы, без сомнения, помните, и Пушкин – саму картину не видал, знал по гравюрам, но упоминал не раз и уж точно имел о ней свое определенное мнение.
Весь этот своеобразный «рафаэлевский текст русской литературы» легко укладывается в стилевую формулу века – от романтизма к натурализму и критическому реализму. «Сикстинская Мадонна» как идеальное воплощение прекрасного в искусстве у ранних романтиков («небесная мимоидущая дева» у Жуковского, «божественное творение» у Кюхельбекера). Как источник вчувствования, операции по наделению героев Рафаэля и его самого субъективными переживаниями в послепушкинскую эпоху («это не Мадонна, это вера Рафаэля» у Бестужева-Марлинского; «Рафаэль носил в душе во всю свою жизнь идеал Мадонны и Христа… Как он понял этого ребенка… как будто ребенок уже хочет говорить народу о тайнах неба» у Огарева). Как шедевр своего времени – впервые у Белинского: «Мадонна Рафаэля – фигура строго классическая и нисколько не романтическая», «Она глядит на нас с холодною благосклонностью, в одно и то же время опасаясь и замараться от наших взоров и огорчить нас, плебеев, отворотившись от нас». Как та красота, которая нас всех спасет, у Достоевского. Итогом векового поклонения «чистейшей прелести чистейшему образцу» станет приговор Толстого: «Мадонна Сикстинская… не вызывает никакого чувства, а только мучительное беспокойство о том, то ли я испытываю чувство, которое требуется».
Весь ХX век под словами Толстого готовы будут подписаться миллионы поклонников другого, жаркого и страстного искусства. Слишком долго считалось, что любовь к Рафаэлю – признак неразвитого вкуса. Настолько долго, что эта любовь в конце концов стала свидетельством принадлежности самой что ни на есть утонченной культуре. На самом же деле подвинуть Рафаэля с его пьедестала не могли даже напрочь отказавшие титану Возрождения в искре божьей Стасов и компания. Выведя на первые роли романтический миф о Рембрандте и противопоставив высокие буйные страсти Микеланджело безжизненной конфетной холодности рафаэлевских дев, критики-«реалисты» не добились ничего. Краткий показ «Сикстинской Мадонны» перед возвращением из Москвы в Германию сокровищ Дрезденской галереи реноме ее автора только упрочил. Тут, как, по легенде, справедливо заметила Фаина Раневская на недоуменное хмыкание «интеллектуалов» перед «Сикстинской Мадонной», «эта дама столько столетий стольким нравилась, что теперь она сама имеет право выбирать, кому нравиться».

«Спасибо, господа. Я очень рад, что мы с вами увиделись, потому что судьба Вертинского, как никакая другая судьба, нам напоминает о невозможности и трагической ненужности отъезда. Может быть, это как раз самый горький урок, который он нам преподнес. Как мы знаем, Вертинский ненавидел советскую власть ровно до отъезда и после возвращения. Все остальное время он ее любил. Может быть, это оптимальный модус для поэта: жить здесь и все здесь ненавидеть. Это дает очень сильный лирический разрыв, лирическое напряжение…».

«Я никогда еще не приступал к предмету изложения с такой робостью, поскольку тема звучит уж очень кощунственно. Страхом любого исследователя именно перед кощунственностью формулировки можно объяснить ее сравнительную малоизученность. Здесь можно, пожалуй, сослаться на одного Борхеса, который, и то чрезвычайно осторожно, намекнул, что в мировой литературе существуют всего три сюжета, точнее, он выделил четыре, но заметил, что один из них, в сущности, вариация другого. Два сюжета известны нам из литературы ветхозаветной и дохристианской – это сюжет о странствиях хитреца и об осаде города; в основании каждой сколько-нибудь значительной культуры эти два сюжета лежат обязательно…».
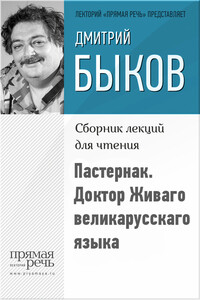
«Сегодняшняя наша ситуация довольно сложна: одна лекция о Пастернаке у нас уже была, и второй раз рассказывать про «Доктора…» – не то, чтобы мне было неинтересно, а, наверное, и вам не очень это нужно, поскольку многие лица в зале я узнаю. Следовательно, мы можем поговорить на выбор о нескольких вещах. Так случилось, что большая часть моей жизни прошла в непосредственном общении с текстами Пастернака и в писании книги о нем, и в рассказах о нем, и в преподавании его в школе, поэтому говорить-то я могу, в принципе, о любом его этапе, о любом его периоде – их было несколько и все они очень разные…».

«Ильф и Петров в последнее время ушли из активного читательского обихода, как мне кажется, по двум причинам. Первая – старшему поколению они известны наизусть, а книги, известные наизусть, мы перечитываем неохотно. По этой же причине мы редко перечитываем, например, «Евгения Онегина» во взрослом возрасте – и его содержание от нас совершенно ускользает, потому что понято оно может быть только людьми за двадцать, как и автор. Что касается Ильфа и Петрова, то перечитывать их под новым углом в постсоветской реальности бывает особенно полезно.
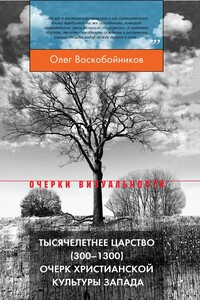
Книга представляет собой очерк христианской культуры Запада с эпохи Отцов Церкви до ее апогея на рубеже XIII–XIV вв. Не претендуя на полноту описания и анализа всех сторон духовной жизни рассматриваемого периода, автор раскрывает те из них, в которых мыслители и художники оставили наиболее заметный след. Наряду с общепризнанными шедеврами читатель найдет здесь памятники малоизвестные, недавно открытые и почти не изученные. Многие произведения искусства иллюстрированы авторскими фотографиями, средневековые тексты даются в авторских переводах с латыни и других древних языков и нередко сопровождаются полемическими заметками о бытующих в современной истории искусства и медиевистике мнениях, оценках и методологических позициях.О.

В новой книге теоретика литературы и культуры Ольги Бурениной-Петровой феномен цирка анализируется со всех возможных сторон – не только в жанровых составляющих данного вида искусства, но и в его семиотике, истории и разного рода междисциплинарных контекстах. Столь фундаментальное исследование роли циркового искусства в пространстве культуры предпринимается впервые. Книга предназначается специалистам по теории культуры и литературы, искусствоведам, антропологам, а также более широкой публике, интересующейся этими вопросами.Ольга Буренина-Петрова – доктор филологических наук, преподает в Институте славистики университета г. Цюриха (Швейцария).

Это первая книга, написанная в диалоге с замечательным художником Оскаром Рабиным и на основе бесед с ним. Его многочисленные замечания и пометки были с благодарностью учтены автором. Вместе с тем скрупулезность и въедливость автора, профессионального социолога, позволили ему проверить и уточнить многие факты, прежде повторявшиеся едва ли не всеми, кто писал о Рабине, а также предложить новый анализ ряда сюжетных линий, определявших генезис второй волны русского нонконформистского искусства, многие представители которого оказались в 1970-е—1980-е годы в эмиграции.

«В течение целого дня я воображал, что сойду с ума, и был даже доволен этой мыслью, потому что тогда у меня было бы все, что я хотел», – восклицает воодушевленный Оскар Шлеммер, один из профессоров легендарного Баухауса, после посещения коллекции искусства психиатрических пациентов в Гейдельберге. В эпоху авангарда маргинальность, аутсайдерство, безумие, странность, алогизм становятся новыми «объектами желания». Кризис канона классической эстетики привел к тому, что новые течения в искусстве стали включать в свой метанарратив не замечаемое ранее творчество аутсайдеров.

