Искусство издателя - [28]
Владимир Дмитриевич
С Владимиром Дмитриевичем я познакомился в начале семидесятых годов на Франкфуртской ярмарке. Сегодня всем нам случается периодически читать гневные обвинения в адрес этого места и этого мероприятия, которое якобы является самым ужасным примером смешения языков и подчинения культуры коммерции. Я никогда не разделял это мнение. Напротив, меня скорее восхищает хаотическая сторона ярмарки, а взаимоотношения между деньгами и буквой, между деньгами и литературой кажутся мне, по меньшей мере, заслуживающими интереса. Но главная причина защищать Франкфуртскую ярмарку, причина, которая для меня побеждает всякий встречный аргумент, состоит как раз в том, что именно там я познакомился с Дмитриевичем. До этого момента о Éditions L’Âge d’Homme я знал лишь то, что всякий раз, когда я обращал внимание на автора из славянского мира, я тут же обнаруживал, что он был опубликован или заявлен издательством L’Âge d’Homme. И мне сказали, что за этим названием стоит некий мсье Дмитриевич.
Когда я встретил его, сразу заметил что-то странное и необычное: между нами возникла сопричастность, хотя мы не знали, как и почему. Мы стали говорить о книгах и с тех пор этот разговор не прекращался. Я думаю, что все так случилось потому, что у нас есть общее убеждение: мы оба считаем, что, говоря о книгах, вступаешь в намного более широкое, легкое и свободное пространство, чем если говоришь о мире или, что еще хуже, о своих делах. Возможно, издателями становятся только для того, чтобы продлевать до бесконечности разговор о книгах. Когда я прочитал волнующие страницы диалогов Дмитриевича и Жан-Луи Куффера, где Владимир вспоминает о своей юности в Белграде, я обнаружил тот жар, ту потаенную пылкость, которая должна питать безбрежное терпение издателя. В своих беседах с Куффером Дмитриевич использовал два слова для определения ремесла издателя: паромщик и садовник. Непосвященному уху эти два слова могут показаться признаками скромности. Я же считаю, что они, напротив, раскрывают большие амбиции. И паромщик, и садовник связаны с чем-то, что уже существует: с садом или с путешественником, которого нужно перевезти. Но и то, что обычно называется творчеством, связано с чем-то, что уже существует. Внутри каждого писателя есть сад, который нужно возделывать, и путешественник, которого нужно перевезти, – ничего более. Иначе он должен был бы иметь дело с намного менее интересным персонажем, коим является его собственное Я. Но оба слова, использованные Дмитриевичем, не просто являются признаком больших амбиций. Для меня они также представляют собой обращение к старинной мечте. Вместе с тем, я считаю, что если у тебя нет образа рая, то очень трудно стать великим издателем. А рай, какие бы формы он ни принимал, всегда будет раем с каким-нибудь водным потоком. Этот образ, однако, должен быть хорошо сокрыт. И в Дмитриевиче меня восхищают еще и отношения между тем, что скрыто, и тем, что на виду. Например, на виду в нем то, что я называю его культом препятствия. Дмитриевич практикует ремесло издателя, основанное на некоторых элементарных препятствиях вроде трудностей, связанных с перенесением рукописи с кабинетного письменного стола в типографию, из типографии в книжный магазин, из книжного магазина в чью-нибудь голову. Дмитриевич стал большим знатоком всех этих переносов. И именно поэтому он развил метафизику, которая служит основой его культа препятствия. Я хотел бы определить ее как метафизику таможни. Поэтому Дмитриевич со своим фургончиком – это самый невероятный и самый практичный из издателей, и меня восхищает как раз сосуществование этих двух полюсов. Все это помещает его в положение хронического неравновесия по отношению ко всему, что его окружает: неравновесия, к которому Дмитриевич стремился и которое он, наконец, нашел. Действительно, если подумать об авторах и о книгах, которые Дмитриевич любит больше всего и которые он опубликовал с большой любовью, мы сразу заметим, что во всех этих книгах есть что-то, чего слишком много или слишком мало по отношению к тому, что их окружает: у всех есть некая беспредельность души. Некоторые, как Шарль-Альбер Сангрия или Роберт Вальзер, слишком малы, чтобы их воспринять: идеальные примеры швейцарцев, которые умеют – здесь я цитирую Дмитриевича – «затмиться, не повышая голоса». Другие подобны Виткевичу, Зиновьеву, Карако, Белому или Црнянскому – в них всегда есть что-то чрезмерное, они выливаются за рамки реальности. То, что эти авторы, как бы ни отличались они друг от друга, оказались под одной крышей, объединенные Дмитриевичем – противоположность случайности.
Каждый настоящий издатель, осознанно или нет, сочиняет единую книгу, состоящую из всех книг, которые он издает. Книга Дмитриевича была бы громадной, исполненной играющей с формой силы, намагниченной безоговорочной верностью племени, которое более не принадлежит никакому месту на земле, кроме страниц самой этой книги. Именно это, на мой взгляд, создает единство, которое определяет форму издательства, именно это сделало возможным встречу Дмитриевича с некоторыми важнейшими для него и для издательства людьми, такими как Женевьева, как Клод Фрошо. От Белграда до Лозанны Дмитриевич совершил одно из самых долгих путешествий, которые только можно представить, неизмеримое приключение, о котором мог бы рассказать только новый Джозеф Конрад. Я всегда об этом думаю, когда встречаю в издательском мире других личностей, чьи приключения представляют скорее предпринимательские саги. Так, постепенно, с годами я обнаружил причины, которые оправдывали впечатление, произведенное на меня Дмитриевичем, когда мы познакомились среди стендов Франкфуртской ярмарки: впечатление, будто по одну сторону стояли эти сотни издателей, окружавшие нас, а с другой стоял он, Дмитриевич, паромщик, варвар, как он любит представляться, тот, кто прибыл в Швейцарию с двенадцатью долларами в кармане и задал свой первый вопрос по-английски, потому что еще не знал ни одного французского слова, владельцу книжного магазина Payot в Лозанне: «Who is Amiel?» Дмитриевич этого не рассказывал, но мы знаем, что первое хорошее издание «Личного дневника» Амьеля несколько лет спустя опубликовало L’Âge d’Homme.
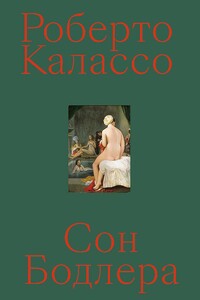
В центре внимания Роберто Калассо (р. 1941) создатели «модерна» — писатели и художники, которые жили в Париже в девятнадцатом веке. Калассо описывает жизнь французского поэта Шарля Бодлера (1821–1867), который отразил в своих произведениях эфемерную природу мегаполиса и место художника в нем. Книга Калассо похожа на мозаику из рассказов самого автора, стихов Бодлера и комментариев к картинам Энгра, Делакруа, Дега, Мане и других. Из этих деталей складывается драматический образ бодлеровского Парижа.
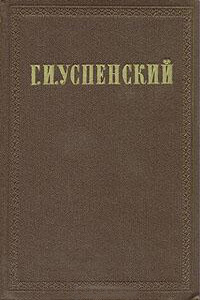
В настоящее издание включены все основные художественные и публицистические циклы произведений Г. И. Успенского, а также большинство отдельных очерков и рассказов писателя.

В ночь с 14 на 15 апреля 1912 года гигантское судно «Титаник» увлекло в ледяную бездну 1500 человек. Об этой одной из крупнейших в мире морских катастроф снято более десятка кинофильмов, написано около 50 книг, опубликовано шесть сборников стихов и две пьесы.Предлагаемая книга о «Титанике» является, по мнению критиков, лучшим и наиболее полным изданием на эту тему в мировой литературе. Ее автора отличает блестящее знание предмета и эпохи, а также тщательность и обстоятельность анализа событий, связанных с гибелью «непотопляемого плавучего дворца».

До сих пор историки многого не знают о Гитлере. Каковы были мотивы его мыслей и поступков? На чем основана легенда о его громадных знаниях и сверхчеловеческих способностях влиять на людей? Автор этой книги, немецкий профессор, в результате долгих и кропотливых исследований создал психограмму человека, возглавлявшего III рейх.

Книга «Продолжение ЖЖизни» основана на интернет-дневнике Евгения Гришковца.Еще один год жизни. Нормальной человеческой жизни, в которую добавляются ненормальности жизни артистической. Всего год или целый год.Возможность чуть отмотать назад и остановиться. Сравнить впечатления от пережитого или увиденного. Порадоваться совпадению или не согласиться. Рассмотреть. Почувствовать. Свою собственную жизнь.В книге использованы фотографии Александра Гронского и Дениса Савинова.
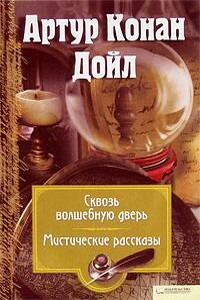
В настоящей книге Конан Дойл - автор несколько необычных для читателя сюжетов. В первой части он глубоко анализирует произведения наиболее талантливых, с его точки зрения, писателей, как бы открывая "волшебную дверь" и увлекая в их творческую лабораторию. Во второй части книги читатель попадает в мистический мир, представленный, тем не менее, так живо и реально, что создается ощущение, будто описанные удивительные события происходят наяву.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.