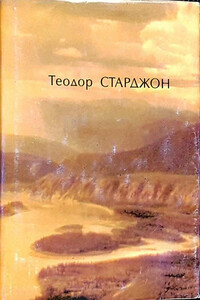Искусство девятнадцатого века - [38]
Как все это вместе было печально, безнадежно и даже оскорбительно со стороны французского искусства, когда-то, по временам, такого высокого, великого и вдохновенного! Но такова была судьба его в последние годы XIX века, и не только все в один голос не жаловались на такое безотрадное положение, но еще многие находили его прекрасным и провозглашали, что именно из таких настроений вырастет, поднимется и расцветет искусство наступающего XX века. Какое мрачное заблуждение! Грядущему XX веку, наверное, предстоит великое и блестящее будущее, но уже, конечно, не повторение и не продолжение ошибок конца XIX столетия. Если бы не такая надежда, кажется, не стоило бы и желать какого бы то ни было искусства в будущем.
30
Судьбы немецкой живописи в течение XIX века были совершенно иные, чем судьбы французской живописи. И всего более в течение первой половины столетия. Германское искусство не имело еще тогда никакого общения с французским и пробавлялось единственно своими собственными материалами и воззрениями, и не хотело знать никаких других, кроме них. Но в его созданиях в ту пору царствовала не идея самостоятельной национальности — элемент высокий, истинный и плодотворный, — а подражание другим временам и народам, далеким, чуждым, худо понятым и навыворот обожаемым. Можно было, во многих случаях, упрекать французское искусство первой половины XIX века тоже в подражательности, в тяготении к старым, чуждым формам и идеям, но все-таки тут часто слышался тоже и пульс жизни, биение собственного сердца, движение собственной души, что-то живое, горячее и стремительное, и это заставляло зрителя извинять иногда многое из массы всего ложного, неверного, преувеличенного, чужого и заблуждающегося. В Германии, в первой половине XIX века, было иначе. Художественное движение совершалось посредством созданий тяжеловесных, неуклюжих, педантских, почти вовсе лишенных жизни и одушевления. Немецкие картины и фрески были тогда словно тяжелые телеги, скрипучие и неповоротливые, с несмазанными колесами, и с великой натугой трогающиеся с места.
Главных течений было два: античное и средневековое. Первое являлось еще по завещанию и примеру XVIII века, второе — возникло вновь.
Фанатическая проповедь Винкельманов и Лессингов в пользу древнего классицизма и поклонения скульптуре принесла ужасные плоды. Она отравила, она зачумила здравое понимание германского народа с новою силою после Ренессанса, прочно и несокрушимо, на очень долгое время. Коль скоро этот классицизм способен был зловредно повлиять даже на таких великих художников мысли и слова, как Шиллер и Гете, отклонив их отчасти, в самые зрелые годы их творчества, от первоначального, самостоятельного и современного настроения их юности, то чего же можно было ожидать от художников кисти, несравненно менее возвышенных наукой и культурой и иногда просто плохих и слабых? Жертвы были громадны.
Карстенс в конце XVIII века, Генелли — его ученик, последователь и наследник — в начале XIX были художники крайне посредственные, даже, можно сказать, почти вовсе не даровитые, но их классицизм был решителен и фанатичен и вполне приходился по вкусам немецкой публики, испорченной искусственным «классическим» школьным воспитанием.
Но прошло немного лет после Карстенса и Генелли, и в Германии снова с великою силою проявилась потребность подражательности и копирования, но уже в припадках новой формы. Первым из этих припадков явилось «назарейство», вторым — мания «всемирной историчности». Первая мания задалась целью воскресить средние века, их дух, настроение, мысль, чувства живописцев и их картины; вторая — целью воспроизводить в своих созданиях все только всемирно-исторические моменты истории всех народов. Сами по себе задачи эти не заключали в себе, конечно, ничего худого, предосудительного. Отчего было не взяться за изображение и средних веков, слишком давно заброшенных, неглижированных, презираемых? Пора, пора было и их выдвинуть на художественную сцену. Это было вполне резонно и законно. Точно так же отчего было не приняться за изображение великих событий всемирной истории, до тех пор трактованных слишком казенно, неудовлетворительно и бедно? В обоих случаях задача была вполне резонна и законна. Но худо было в обоих случаях то, что художники, наметивши себе эти задачи, были наполнены не внутренним душевным жаром, не вдохновением пламенного сердца и ума, а холодными рассудочными расчетами, придуманностью, словно какими-то алгебраическими выкладками. «Так надо по ходу истории; мы это должны сделать, и мы это сделаем, и это будет велико и значительно», — вот что постоянно вертелось в уме у новых германских художников, вот что водило их кистью.
Замечательно, что этот период немецкой живописи отличился одною особенною чертою, которой не проявлялось никогда прежде. Это, — во-первых, разрывом с академией и, во-вторых, образованием художественных товариществ. С самого начала XIX века в разных концах Германии начали проявляться в головах у молодых художников искры самостоятельного мышления, непокорство к учению Академии. Этих юношей, конечно, тотчас стали теснить старые академисты, иных из их числа даже поспешили изгнать из академических стен, другие сами ушли оттуда. Куда же им было итти, где приклонить свою упрямую, самовольную головушку? Конечно — поскорей надо было бежать в Италию. Уже давно, с самого начала Возрождения, Италии приписывалось какое-то необычайное, несравненное животворное значение, она была признана воспитательницей и возрастительницей художественных умов и талантов. На этом основании, когда в первой четверти XIX века народилось в Германии целое поколение молодых художников, самостоятельно думающих и протестующих, они устремились в Италию. Это были: Овербек, Пфорр, Фогель, приехавшие в Рим в 1810 году, Корнелиус — в 1811, Шадов — в 1815, Шнорр — в 1818, наконец, всех позже, Фюрих в 1827 и Штейнле тоже в 1827 году. Они в Риме основали свою колонию и стали проводить сначала дни и месяцы, а потом годы в восторге и энтузиазме перед старым итальянским искусством, в любовании, распознавании, фетишизме перед прежними мастерами. Но с этими юношами случилась та самая беда, которая случается иной раз с детьми, когда за ними никто не смотрит и никто не видит, что они делают. Они объедаются конфетами и портят себе желудок. Только у детей эта болезнь обыкновенно скоро проходит, а если дело еще не слишком запущено, то и небольшая доза лекарства скоро делает их снова здоровыми, бодрыми, сильными, веселыми, энергическими и живыми. С римской колонией немецких живописцев этого, к несчастью, не случилось. Никакая нянюшка, никакая мамаша и тетя не спасала и не лечила их, и они долго и постоянно, с ограниченностью и прочностью немецких буршей портили себе желудок и голову и безбрежно мечтали о том, что могло наносить только громадный вред их натуре и их творениям.
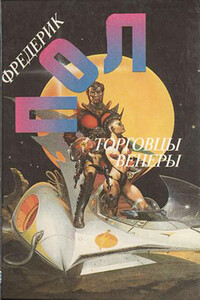
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«„Герой“ „Божественной Комедии“ – сам Данте. Однако в несчетных книгах, написанных об этой эпопее Средневековья, именно о ее главном герое обычно и не говорится. То есть о Данте Алигьери сказано очень много, но – как об авторе, как о поэте, о политическом деятеле, о человеке, жившем там-то и тогда-то, а не как о герое поэмы. Между тем в „Божественной Комедии“ Данте – то же, что Ахилл в „Илиаде“, что Эней в „Энеиде“, что Вертер в „Страданиях“, что Евгений в „Онегине“, что „я“ в „Подростке“. Есть ли в Ахилле Гомер, мы не знаем; в Энее явно проступает и сам Вергилий; Вертер – часть Гете, как Евгений Онегин – часть Пушкина; а „подросток“, хотя в повести он – „я“ (как в „Божественной Комедии“ Данте тоже – „я“), – лишь в малой степени Достоевский.

«Много писалось о том, как живут в эмиграции бывшие русские сановники, офицеры, общественные деятели, артисты, художники и писатели, но обходилась молчанием небольшая, правда, семья бывших русских дипломатов.За весьма редким исключением обставлены они материально не только не плохо, а, подчас, и совсем хорошо. Но в данном случае не на это желательно обратить внимание, а на то, что дипломаты наши, так же как и до революции, живут замкнуто, не интересуются ничем русским и предпочитают общество иностранцев – своим соотечественникам…».

Как превратить многотомную сагу в графический роман? Почему добро и зло в «Песне льда и огня» так часто меняются местами?Какова роль приквелов в событийных поворотах саги и зачем Мартин создал Дунка и Эгга?Откуда «произошел» Тирион Ланнистер и другие герои «Песни»?На эти и многие другие вопросы отвечают знаменитые писатели и критики, горячие поклонники знаменитой саги – Р. А. САЛЬВАТОРЕ, ДЭНИЕЛ АБРАХАМ, МАЙК КОУЛ, КЭРОЛАЙН СПЕКТОР, – чьи голоса собрал под одной обложкой ДЖЕЙМС ЛАУДЕР, известный редактор и составитель сборников фантастики и фэнтези.