Искусство девятнадцатого века - [16]
17
Лет сорок тому назад, после второй лондонской всемирной выставки 1862 года, я писал в «Современнике»: «Наша эпоха — не эпоха скульптуры. Сильных талантов в этом роде давно не появляется. Гнушаясь пустого, сладкого потаканья, строгая художественная критика (нашего времени) не побоялась высказать настоящее значение многочисленных скульптурных произведений выставки. Немногие из них служат доказательством значительных художественных дарований. Но постоянство и горячность стремлений, неутомимая жажда на всем отведать свои силы, возможности и способы искусства доказывают глубоко тлеющий огонь жизни». Я и до сих пор исповедую то же самое убеждение. Ничто, мне кажется, в эти четыре десятка лет вокруг нас не переменилось. Хорошее по части скульптуры есть на свете, в XIX веке, но его мало, его встретишь редко, все остальное — это неудовлетворительность, ничтожество, постоянная ошибка. Мало способности у новой Европы к скульптуре.
Это же мнение мы находим и у некоторых европейских писателей по части искусства. Один из блистательнейших между ними, француз Гюисманс, писал в 1879 году (раньше своего печального обращения в декаденты): «Нынешняя скульптура — это самый ужасный паралич, какой только можно себе представить. Давно пора сдать в архив это старое клише, которым нас угощают каждый год: „скульптура — это, дескать, слава Франции; живопись ничуть не идет вперед — но зато скульптура!“ Так нет же, тысячу раз нет! Правда, я всеми силами души моей ненавижу большинство картин, появляющихся на ежегодных выставках, эти мистификации „великого искусства“, но я еще больше ненавижу эти пузыри, которые зовутся современной скульптурой. Живописцы — сущие гении в сравнении с этими официальными лепщиками. Одно из двух: скульптура либо может, либо не может сходиться с современною жизнью. Если может, то пусть она тогда пробует современные сюжеты, и мы будем по крайней мере знать, чего держаться. А если не может, то, так как вовсе не стоит труда повторять сюжеты, гораздо лучше трактованные прежними поколениями, пускай люди ограничиваются орнаментальной скульптурой. Все от этого выиграют, во-первых, они сами, потому что скоро должен подняться всеобщий вопль против торжественного буфонства из мраморов, а публика еще более, потому что, не стесняемая более этими каменных дел работами, будет свободно наслаждаться, в этом же помещении, чудесами какой-нибудь цветочной выставки…» А еще, про выставку 1881 года, Гюисманс писал: «И опять все то же собрание бюстов, аллегорий, голых тел! Ни малейшей попытки к чему-либо современному! Уж лучше было бы вовсе молчать, чем всякий год размазывать все одну и ту же старинную рацею».
Все это были у него золотые слова, но вместе — голос вопиющего в пустыне. Никто его не слушал, никто его не слышал — что хочешь делай, эти слова все равно ни к чему не вели. Художники попрежнему плели свою бессмысленную работу, публика все попрежнему бессмысленно смотрела на них и кивала головами.
Но какой чудак этот Гюисманс, а с ним и все, кто смотрел с упованием и надеждою вперед. «Скоро поднимется всеобщий вопль!» «Лучше было бы молчать!» Никто из публики не поднимал вопля, никто из художников и не собирался помолчать. Напротив, все поднимали не вопль негодования, а клики радости, восторга, умиления, благодарности, художники же — все только больше и больше выговаривали своих бессвязных, безрассудных речей в камне, мраморе и бронзе.
18
После таких великих, хотя и сто раз заблуждавшихся (под гнетом понятий своего века) художников XVIII столетия, как Фальконэ и Гудон, вдруг является на сцену итальянец Канова, человек не бесталантный, но художник слабый духом, сладкий формами, приторный, манерный, нечто вроде лайковой кожи и Беллини, — и его торжествам, чествованиям и прославлениям не было пределов. Сама сестра Наполеона I, принцесса Полина Боргезе, позирует для него совершенно нагая для «Венеры», сам ее брат позирует перед ним совершенно нагой для статуи «Император», вся европейская аристократия, французская, английская и итальянская, рвется попасть под резец «воскресителя древней скульптуры» или добыть для своих дворцов его Геб, Венер, Амуров, Граций.
Но скоро его смещает с трона датчанин Торвальдсен. Опять торжества, опять восторги и ликования. «Он догнал греков, он, пожалуй, и перегнал их!» — восклицают толпы, глубоко обрадованные, и с богопочтением взирают на его «Язонов», «Граций», летящую «Ночь», летящую «Зарю», на его «Амуров», «Психей», «Ганимедов», «Меркуриев», на его барельефы, считаемые высокими chefs d'oeuvre'ами (в том числе фарисейская «Процессия Александра Македонского», затеянная было в начале 1812 года для подобострастного прославления Наполеона), на его изображения львов, коней и других животных, которых, впрочем, он умел лепить лишь очень плохо; наполняют ими свои музеи и палаццы; все требуют с него композиций на всевозможные сюжеты, бюстов и статуй с живых и мертвых, великих, малых и средних людей, и он выполняет заказы свои не без таланта, с известным изяществом и грацией, но холодно, вяло, скучно, без искры огня, чувства и вдохновения, — и скоро все изменяют ему, точно как недавно Канове. К началу второй половины столетия его великая слава пала, и вся художественная жизнь его была названа «одной сплошной ошибкой». Это было объявлено значительнейшим английским критиком Пальгревом во время всемирной выставки 1862 года, и никто от таких слов не приходил уже в негодование, никто не протестовал. Кредит Торвальдсена был уже подорван во всех умах и чувствах. Он более не годился веку. Его соответствие нашему времени было только призрачное. (Заметим, впрочем, что его «Христос», как ни «античен» и холоден в корню, а все-таки есть лучший из всех идеальных Христов, вылепленных европейскою скульптурою в течение целых почти двух тысяч лет.)
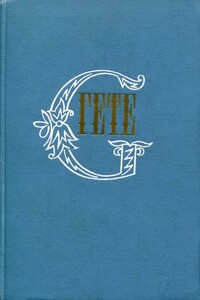
Гете писал: «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи — это подлинный краеугольный камень всех понятий об искусстве. Это единственная в своем роде картина, с ней нельзя ничего сравнить».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.








