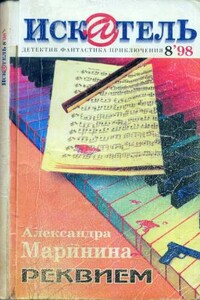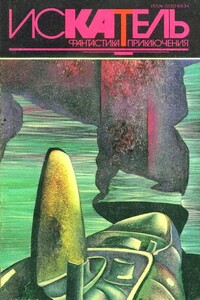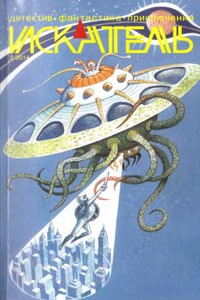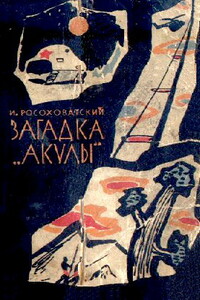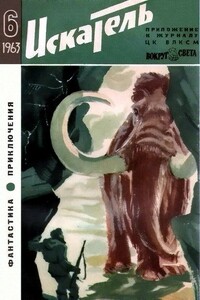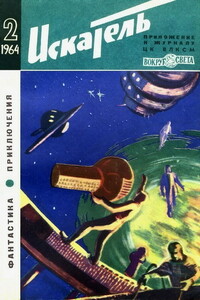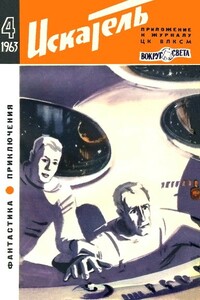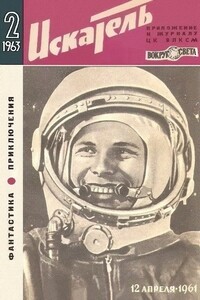Бойцы зашевелились, протягивая лейтенанту жалкие остатки пайков. Я вынул и сунул в общий котел злосчастные галеты. Левон вытащил из-за пазухи беленький узелок, развернул его, положил на сухари остатки лаваша и сыра. Нюся подошла к Левону, как-то нежно и осторожно прикоснулась к белой косыночке, в которую был завернут лаваш.
— Хочешь — возьми, — обрадовался паренек. — Это Ануш, сестра, вышивала.
Нюся прыснула, словно он сказал ей что-то очень смешное.
— Нет, ты представляешь: сапоги, шинель, а на голове — косынка! Умора! — Она обернулась, приглашая и нас представить себе эту забавную картину и посмеяться. Но все молчали. Тогда Нюся аккуратно сложила косынку уголок к уголку — и сама сунула снова Левону за пазуху, аккуратно застегнула на нем шинель.
— Потом подаришь. Вернешься — и подаришь.
Андрей тем временем разложил продукты на две равные части. Подумал, отделил от своей еще половину, придвинул ко мне.
— Нам сидеть. Вам идти.
Ну вот, кажется, и все. Ребята медлили.
— Перекурим на дорожку, — сказал Вася и вытащил кисет с махоркой. — У кого завертка найдется?
Все молчали. Тогда я вынул свою неразлучную тетрадку. Вырвал из нее чистый листок. Еще несколько рук протянулось ко мне за бумагой.
Мы вышли задолго до рассвета. Выло ясно и звездно — здесь, на высоте, звезды гаснут позже. Снег слежался. Шагать было сравнительно легко.
Я оглянулся.
Короткая цепочка черных силуэтов. Словно мазки краски стального цвета — отсвет луны на плечах, рукавах маскировочных халатов. А за спиной замыкающего оставался след, напоминающий длинную, узкую, извилистую трещину.
Мы шли медленно. Куда медленнее, чем хотелось бы. Молчали. Зачем тратить силы на слова? Только скрип снега да шумное дыхание идущего следом, за спиной, в двух метрах — словно тихий и однообразный аккомпанемент к голосу гор: к пушечным залпам лопавшегося от мороза льда и камня или к вдруг нараставшему грому невидимых в ночи лавин, разбуженных этими залпами.
Потом я сделал шаг влево. Тому, кто шел за мною след в след, не нужно было объяснений. Он молча миновал меня, вышел вперед, и я, стал на его след. Теперь он прокладывал тропу. Теперь он, словно слепец, тыкал перед собою в снег длинной суховатой палкой, проверяя путь, и вел отряд за собою.
Горы мерцали в лунном свете. Они казались совсем рядом. И отрог хребта, в тень которого мы скоро должны были войти, и зубчатая линия гребня, до которого нам предстояло добраться, пройти, проползти до еще неизвестного мне зубца или впадины и там затаиться на весь долгий день. Будет ли новый день таким же ясным?
Шагать становилось все труднее. Мы вышли на камни, одетые льдом. Увеличилась крутизна ската. Теперь приходилось рубить ступени.
Могучий сибиряк Вася работал ледорубом, словно донецкий шахтер киркой.
— Руби белый уголь Кавказа, — подбодрил его Гурам.
— Слушаюсь, генацвале, — отозвался Вася.
Ребята даже теперь не теряли чувства юмора. Это неплохо.
Но вот мы оказались на крохотной площадке перед отвесной обледеневшей стеной. Такие стенки даже на картах-трехверстках, какая лежала у меня в планшете, не обозначаются. А может быть, ее и не было тогда, когда делались съемки этих диких, пустынных мест. То был каток, поставленный вертикально. Мы уперлись в него и остановились. До гребня было всего несколько метров, но как их преодолеть?..
Какое-то время все растерянно молчали. И вдруг Левон сказал:
— Пирамида…
— Товарища Хеопса или товарища Рамзеса? — мрачно съязвил Гурам.
— Нет, как в школе, на спортивном празднике.
Вася сразу все понял и поддержал Левона с неожиданным азартом:
— Два стали на корточки. Один, им на плечи — и присел. К нему на плечи — еще один. Потом — р-р-раз, встали и вон до того выступчика дотянулись… А?
Я не помню, чтобы не то что зимой, летом в горах альпинисты проделывали подобные номера на краю отвесного склона. Но война вносила и в альпинизм такие коррективы, которые никогда никому и не снились… Да, мы, конечно, предприняли какие-то возможные меры предосторожности, страховки. Но как знать, смогли бы мои товарищи — и каким образом — удержать гроздь из четырех тел, если бы она начала скользить вниз.
И вот эта единственная в своем роде пирамида, на вершине которой был я с ледорубом в руках, начала медленно выпрямляться… выпрямилась… застыла. И терпеливо, нерушимо стояла, пока я вгонял крюк и крепил на нем веревку, пока вырубал уступ для упора ноги, потом еще один уступ там, где я должен был вцепиться в лед рукой и, подтянувшись, ухватиться другой рукой «за тот выступчик». И мне все это удалось. Я лег плашмя на кромке стенки, прополз несколько метров по скользкому, градусов в тридцать, скату до острого, выраставшего из самых недр хребта камня, показавшегося мне надежным. Именно за него удобно было захлестнуть веревку. Потом я вернулся и позвал:
— Давай!
Первой появилась голова Ашота. Он ухватился за мою руку и выполз, тяжело дыша, пофыркивая, словно морж, выбравшийся из воды.
— Ползи выше, следи за веревкой, — шепнул я ему.
Вот так, один за другим, выбирались по ледяной стене мои товарищи. Вот, кажется, последний. Я ухватил… тоненькую руку в варежке.