Интонация. Александр Сокуров - [15]
После отъезда Тарковского вы с ним еще по телефону продолжали общаться.
Да, и письмами…
Как вам кажется, что ему нужно было в общении с вами?
Я был молодой человек, негрубый, нехамовитый, я умел слушать… Ему нужен был кто-то, кто умел бы слушать. Я умел не то чтобы оправдывать его, я умел понимать его состояние. Однажды он одному человеку (это был известный режиссер и актер) в моем присутствии сказал какие-то очень жесткие вещи — в духе «Ты подонок и подлец и подлецом умрешь». Я не знал, что там за конфликт был и почему, и не знаю даже, видел ли тот человек, что я стою там рядом — по-моему, это на «Мосфильме» было… И когда потом, уже вечером, мы сидели с Тарковским, чай пили, и он спросил мои впечатления об этом разговоре, я ему сказал свое мнение. И я почувствовал, что ему было очень важно, что я понял, почему он это говорил, вот именно так.
А вы действительно поняли, почему он говорил именно так?
Да, действительно.
То есть вы согласны были с такой формой?
Да, да, да, да.
Те фильмы, которые у Тарковского выходили за рубежом, вы видели в годы их выпуска?
Нет. Я с ним разговаривал, он мне подробно рассказывал о «Жертвоприношении» — как, что, почему… Говорил, как он не любит этих шведских актеров, которых ему навязали. Они все из театра Бергмана. Ему сказали просто: «Андрей, они согласились сниматься бесплатно». Бюджет был очень маленький.
И ему не понравились люди Бергмана?
Ну, просто он не сам выбирал этих актеров, ему не нравилось, что ему привели людей, имена которых будут хоть какой-то приманкой… Понимали же, что создается убыточное дело, как оно и было на самом деле: в прокате-то провалилась картина с треском. Но вообще у его картин в прокате тяжелейшая ситуация была — и в Европе, и у нас. Это сейчас его имя на слуху, а тогда были полупустые залы, репутация диссидента, политика. Когда он остался там, сборы стали немного повыше, потому что диссидентство вызвало интерес политический — СМИ, телевидение, фестивали…
А вам что дало общение с ним? Поддержку какую-то?
Только моральную.
Он же помог вам на «Ленфильм» устроиться.
Да, это действительно так. Но для меня были важны именно человеческие отношения. Я, может быть, даже не до конца осознавал масштаб его, потому что специально старался не думать о кино, обо всем этом. Мне мешало, что мы познакомились с ним на кинематографическом основании. Мне казалось, это не очень хорошо, не очень серьезно.
Ленинградская симфония
Ваш первый фильм на Ленинградской студии — «Альтовая соната. Дмитрий Шостакович». И это ваша единственная работа в соавторстве. Как вы распределяли обязанности с Семеном Арановичем?
Я занимался пластикой изображения, а Семен Давыдович работал с документами. Отбором музыки мы занимались вместе. Он начал работу над этой картиной раньше, а я присоединился и вошел в его группу, уже когда литературный сценарий был написан. Но это не принципиально для документальной картины.
Чей инициативой было пригласить вас в проект?
Группа ленинградских режиссеров сказала ему: «Возьми вот этого Саню, он вольет тебе новой крови». Он, посмотрев «Одинокий голос человека», согласился. Тогда они стали меня уговаривать. Это был и Герман, и он, и Клепиков Юрий Николаевич[16]. Я почему-то тоже согласился.
Вы недовольны этим сотрудничеством?
Нет, нет, мы работали с ним очень хорошо. Хотя я был вдвое моложе его, он слушал, не возражал никогда, и все, что я пытался там сделать, принималось. Работали очень хорошо. У нас появились проблемы, когда на студии начались обыски. Картина была закрыта, запрещена к показу, признана абсолютно антисоветской. Кроме того, в момент, когда мы заканчивали ее, в США остался Максим Шостакович, отказавшись возвращаться на родину по политическим причинам… В итоге фильм не был принят ни одной инстанцией, они постановили провести выемку и смыть пленку. И за несколько часов, когда меня предупредили, что выемка скоро будет, я разрезал девять бобин позитивной копии на куски по 60–70 метров, завернул в газету и стал бегать по трем мужским туалетам — прятать в корзинах. И у меня ноги дрожали не от страха за себя, а от ужаса, что, если придет уборщица и начнет убирать, будет проблема. Один раз я увидел уборщицу, попросил не убирать, она ничего не поняла — правда, я что-то ей дал: то ли денежек, то ли еще чего-то, — и она ушла. И так там пролежала эта пленка весь вечер. Следователи пришли на студию, изъяли негатив, он был смыт, размонтирован, оптическая фонограмма тоже была уничтожена. И осталась вот эта позитивная копия с оптической дорожкой — тогда копии печатали перед сдачей. Я ночь провел на студии и где-то рано-рано утром собрал все эти куски, стал считать — двух кусков недоставало, обежал туалеты опять, нашел. Дальше была проблема, как это вынести с территории студии, потому что очень большой объем пленки. Ну, как-то вынесли, через некоторое время я ее собрал, и вот так она лежала спрятанная, пока не изменилась политическая ситуация. И по этой позитивной копии был напечатан контратип, поэтому изображение у фильма сейчас не очень хорошего качества.
Вы пытались как-то бороться с запретом картины? Показывали ее кому-нибудь?

«Время идет не совсем так, как думаешь» — так начинается повествование шведской писательницы и журналистки, лауреата Августовской премии за лучший нон-фикшн (2011) и премии им. Рышарда Капущинского за лучший литературный репортаж (2013) Элисабет Осбринк. В своей биографии 1947 года, — года, в который началось восстановление послевоенной Европы, колонии получили независимость, а женщины эмансипировались, были также заложены основы холодной войны и взведены мины медленного действия на Ближнем востоке, — Осбринк перемежает цитаты из прессы и опубликованных источников, устные воспоминания и интервью с мастерски выстроенной лирической речью рассказчика, то беспристрастного наблюдателя, то участливого собеседника.

«Родина!.. Пожалуй, самое трудное в минувшей войне выпало на долю твоих матерей». Эти слова Зинаиды Трофимовны Главан в самой полной мере относятся к ней самой, отдавшей обоих своих сыновей за освобождение Родины. Книга рассказывает о детстве и юности Бориса Главана, о делах и гибели молодогвардейцев — так, как они сохранились в памяти матери.
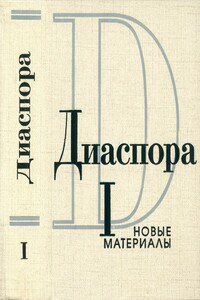
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Поразительный по откровенности дневник нидерландского врача-геронтолога, философа и писателя Берта Кейзера, прослеживающий последний этап жизни пациентов дома милосердия, объединяющего клинику, дом престарелых и хоспис. Пронзительный реализм превращает читателя в соучастника всего, что происходит с персонажами книги. Судьбы людей складываются в мозаику ярких, глубоких художественных образов. Книга всесторонне и убедительно раскрывает физический и духовный подвиг врача, не оставляющего людей наедине со страданием; его самоотверженность в душевной поддержке неизлечимо больных, выбирающих порой добровольный уход из жизни (в Нидерландах легализована эвтаназия)

Автор этой документальной книги — не просто талантливый литератор, но и необычный человек. Он был осужден в Армении к смертной казни, которая заменена на пожизненное заключение. Читатель сможет познакомиться с исповедью человека, который, будучи в столь безнадежной ситуации, оказался способен не только на достойное мироощущение и духовный рост, но и на тшуву (так в иудаизме называется возврат к религиозной традиции, к вере предков). Книга рассказывает только о действительных событиях, в ней ничего не выдумано.

У меня ведь нет иллюзий, что мои слова и мой пройденный путь вдохновят кого-то. И всё же мне хочется рассказать о том, что было… Что не сбылось, то стало самостоятельной историей, напитанной фантазиями, желаниями, ожиданиями. Иногда такие истории важнее случившегося, ведь то, что случилось, уже никогда не изменится, а несбывшееся останется навсегда живым организмом в нематериальном мире. Несбывшееся живёт и в памяти, и в мечтах, и в каких-то иных сферах, коим нет определения.