Инсургент - [9]
Народу будет много. Придут стариканы 48-го года, чтобы обрушиться на Бонапарта, как только они почуют в каком-нибудь полустишии республиканский намек. Будет присутствовать и вся молодая оппозиция: журналисты, адвокаты, «синие чулки», которые своими подвязками удушили бы императора, попадись только он в их розовые коготки, и которые вырядятся для битвы в свои праздничные шляпки.
Но уже издали я вижу, как перед входом в Гранд-Орьен толпится публика вокруг человека, наклеивающего на афишу свежую полосу.
Что случилось?
Оказывается, чтение драмы Гюго запрещено, и организаторы извещают, что «Эрнани» будет заменен «Сидом».
Многие уходят, пробормотав пренебрежительно три слога моего имени и фамилии... ничего им не говорящих.
— Жак Вентра?
— Не знаю такого.
Никто не знает меня, кроме нескольких журналистов, завсегдатаев нашего кафе. Они пришли нарочно и остаются, чтобы посмотреть, как я выпутаюсь, рассчитывая на то, что я провалюсь или учиню скандал.
Пока там читают александрийские стихи «Сида», я захожу в ближайшую пивную.
— Твоя очередь! Сейчас тебе выступать!
Я едва успеваю взбежать по лестнице.
— Вам! Вам!
Пересекаю зал, — и я на эстраде.
Не торопясь, кладу шляпу на стул, бросаю пальто на рояль позади себя, медленно снимаю перчатки и с торжественностью колдуна, гадающего на кофейной гуще, мешаю ложечкой сахарную воду в стакане. А затем начинаю, ничуть не смущаясь, как если б я разглагольствовал в молочной:
— Милостивые государыни и милостивые государи!
………………………………..
Заметив в аудитории дружественные лица, я гляжу на них, обращаюсь к ним, и слова льются сами собой; мой громкий голос разносит их по всему залу.
После Второго декабря я впервые выступаю публично. В то утро я взбирался на скамьи и тумбы, говорил с толпой, призывал ее к оружию, обращался с речами к неизвестным мне людям, которые проходили, не останавливаясь.
Сегодня, одетый в черную пару, я стою перед разряженными выскочками, воображающими, что они совершили акт величайшей смелости, придя сюда послушать чтение стихов.
Поймут ли они меня, да и станут ли слушать?
Эти пуритане ненавидят Наполеона, но они не жалуют и тех, от чьих слов несет больше порохом Июньских дней, чем порохом государственного переворота. Седоусые весталки республиканской традиции, все они — подобно Робеспьеру и его подражателям, их предкам, — являются строгими Бридуазонами[17] классического образца.
Присутствующие здесь и читавшие меня раньше педанты в белых галстуках совершенно сбиты с толку моими беспорядочными нападками, направленными не столько на бюст Баденге[18], сколько на все гнусное современное общество. Негодное, оно бросает одни лишь свинцовые пули на борозды, где корчатся в муках и умирают от голода бедняки, — кроты, которым плуг обрезал лапы. И они даже не могут разорвать мрак своей жизни одиноким криком отчаяния!
Но не отчаяние, а скорее презрение переполняет сейчас мое сердце и зажигает фразы, которые я и сам нахожу красноречивыми. Я чувствую, как они сверкают и разят среди всеобщего молчания.
Но они не пропитаны ненавистью.
Я не бью тревогу, я зову к атаке! Я дерзок и насмешлив, как барабанщик, ускользнувший от ужасов осады и очутившийся на свободе. Он смеется над неприятелем, плюет на приказы офицера, и на устав, и на дисциплину, бросает в канаву форменную фуражку, срывает нашивки и с увлечением балаклавских музыкантов бьет зорю иронии.
Честное слово, воспользовавшись случаем, я, кажется, выскажу им все, что душит меня!
Я забываю мертвого Бальзака и говорю о живых, забываю даже нападать на империю и размахиваю перед этими буржуа не только красным, но и черным знаменем[19].
Я чувствую, как взлетает моя мысль, легкие расширяются, я дышу наконец полной грудью, трепещу от гордости и испытываю почти чувственное наслаждение во время своей речи. Мне кажется, что сегодня впервые свободны мои жесты и что, насыщенные моей искренностью, они захватывают всех этих людей, которые тянутся ко мне с полуоткрытыми губами, впиваясь в меня напряженным взором.
Я держу их всех в своих руках и обращаюсь с ними по воле вдохновения.
Почему они не возмущаются?
Да потому, что я сохранил все свое хладнокровие и, чтобы расшевелить их мозги, действовал оружием, замаскированным наподобие кинжала греческих трагедий. Я забросал их латынью, говорил с ними языком «великого века», и эти идиоты позволили мне высмеивать свою религию и принципы потому лишь, что я воспользовался для этого языком, чтимым их риторикой, языком, на котором разглагольствуют адвокаты и профессора гуманитарных наук. Между двумя периодами в духе Вильмена[20] я вставляю резкое и жестокое словцо бунтаря и не даю им времени опомниться.
Некоторых из них я просто терроризирую.
Только что колкой фразой я вскрыл, точно ржавым ножом, один из их предрассудков. Я увидел, как целая семья возмутилась и раскричалась, как отец стал искать свое пальто, а дочь — поправлять шаль. Тогда я сурово поглядел в их сторону и грозным взглядом пригвоздил их к скамье. Испуганные, они снова уселись, а я чуть не прыснул со смеху.
Но пора кончать. Мне остается сказать заключительное слово, и я быстро разделываюсь с ним.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
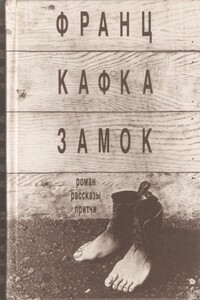
Франц Кафка. Замок. Роман, рассказы, притчи. / Сост., вступ. статья Е. Л. Войскунского. — М.: РИФ, 1991 – 411 с.В сборник одного из крупнейших прозаиков XX века Франца Кафки (1883 — 1924) вошли роман «Замок», рассказы и притчи — из них «Изыскания собаки», «Заботы отца семейства» и «На галерке», а также статья Л. З. Копелева о судьбе творческого наследия писателя впервые публикуются на русском языке.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Один из лучших романов Гюго — «Отверженные». Это громадная эпопея, представляющая целую энциклопедию французской жизни начала XIX века. Сюжет романа чрезвычайно увлекателен, судьбы его героев удивительно связаны между собой неожиданными и таинственными узами. Его основная идея — это путь от зла к добру, моральное совершенствование как средство преобразования жизни.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
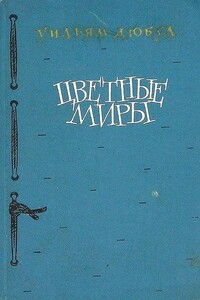
Роман американского писателя Уильяма Дюбуа «Цветные миры» рассказывает о борьбе негритянского народа за расовое равноправие, об этапах становления его гражданского и нравственного самосознания.