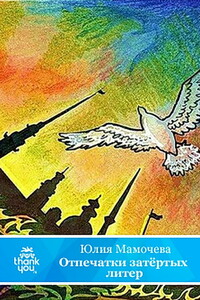Инсектариум - [19]
Дважды женат. Он либо оставил первую супругу, причинив ей боль, либо (если верить словам его нынешней дамы) — любит ту женщину доныне. Возможно, она умерла? Брак — это очень непросто. Мои родители развелись, когда мне было четыре года, и оба создали новую семью. Мама — почти сразу; папа — около полугода назад. Я помню тот день, когда он пришел домой из театра, где играет, и рассказал, что скоро мы перестанем жить вдвоем. Мне было ревниво и слезно, но отец — это второе я, и поэтому я номер один решило не обнажать ножей и мирно выказать некое подобие радости. Папа ничего не заметил; он целыми днями пропадает среди актеров и очень привык к плохой игре, даже сопровождаемой весьма скверно подделанной миной. Наша сожительница, в принципе, неплоха; только вот меня сразу же стало истерически нервотить от ее манеры обзывать меня Маргариткой вместо привычного «Гоша». Я даже охотнее откликнулась бы на «Гарри», чем на ту мило-пересахаренную субстанцию, что брызжет мне в сердце всякий раз, когда мачеха решает ко мне обратиться. Но это мелочи. Теперь они далеко, а я здесь и сейчас.
Теперь никто меня вообще никак не называет. Толпа склонна обезличивать — вот ты есть, вот ты — ее живая клеточка, дышащая частичка — но не имеешь ни разума, ни чувства, ни лица, ни имени. Ты один из. Ты жуешь, как иссосанную до безвкусия жвачку, свои «спасибо-пожалуйста-добрыйвечер-приятногоаппетита», обращенные к никому, к пестрой толпе случайных безымянных единиц, которые интересны и важны только в данной точке временного отрезка, наличие которых полезно лишь при определении, жив ли ты до сих пор.
Одна из этих единиц — старик, первая любовь которого, вероятно, умерла. При таком раскладе он неправедно обошелся с теперешней своей женою, ища в ней отдушину, плечо для душеизлияний. Люди не любят быть плечом. Но эта дама до сих пор с ним — значит, она добра и великодушна, ее не унижает мужнино слабоволье. Порок сердца. Порок разума. Жизнь — один порок. Кто из нас непорочен? Все не без греха. Но почему тогда одни получают статус болезненности сразу, авансом, в кредит, а иные так и уходят, не искупив страданием греха своего? Через пару дней мы будем возле древнего монастыря, и я постараюсь отмолиться у святых мощей. Я страшная грешница, Господи.
Теперь уже глубокая ночь. Я стою на тихой и лысой палубе, курю ловко подстреленную дорогую джентльменскую сигариллу и смотрю на воду. Как стекло она. Сейчас брошусь в Волгу и разобьюсь, так и останусь лежать с вывернутыми изломанными суставами, а вода и не подумает приласкать меня. Не обнимет, не погладит. Не поглотит. Мама, где ты? Молишься обо мне. Я слышу. Я жива.
По воде, по стеклу, легкими шагами, держа над головою фонарь, выходит из туманного горизонта Шопен. Фонарь светит желто и жадно, я зажмуриваюсь и слышу, как затертый перегородкою женский голос приглашает кого-то взглянуть на маяк.
Сегодня была Казань. Несказанно разная, резная и прекрасная ризою главной своей иконы. Жаль, что икона эта была утеряна. Украдена и сожжена несколькими любителями оседлать судьбу. Воры вырвали ее из груди храма с единственной целью проверить чудо на предмет чудесности; им было интересно, будет ли она гореть, как еретичка, умеет ли дивотворствовать — по правде. Так воры сказали на суде, а потом сели в тюрьму на несколько лет. Вор должен сидеть в тюрьме, а рукопись не должна гореть. Это закон. Икона сгорела, как спичка, бессловесно и укоризненно глядя на своих экзаменаторов. Да здравствует святая инквизиция! Мошенница найдена и обличена. Обличена и обезличена. Уничтожена. Нечего мироточить, ты бы лучше не горела. А ворье пускай себе сидит в тюрьме. Ай-ай, нехорошее какое. Антикварной ценности общественность лишило. На что ж теперь глядеть-то будем?
«Харе Кришна!» — говорит кто-то. Обернувшись, вижу у фонтана паренька в зеленой плащанице до пят, закрепленной на одном плече. Юноша улыбается, быстро и светло говорит, хватает за руку и тянет куда-то. Иду следом. Скоро оказываюсь в целой роще молодых ребят, так же смешно экипированных: все в длинных балахонах, половина из них топчется на главной улице города прямо босиком. Некоторые негромко поют на неведомом мне языке; остальные отбивают такт ногами по асфальту, хлопают ритмично в ладоши. Две девушки, плавно и истово изгибаясь, извиваясь всем телом, танцуют в волнах оживающих своих нарядов, ведомые вселенской ласковостью странно-дивного гимна жизни. Мимо нашего сборища, оборачиваясь, идут люди. Какой-то пожилой мужчина улыбается, машет нам рукою, что-то одобряюще кричит. Его зовут в круг, но он торопится, отмахивается, весело смеется, снова машет нам и исчезает в глубине города. Одна из плясуний внезапно берет мои ладони в свои, и вот уже мы танцуем вместе, объединенные всеобщею силой чистого счастья. Мы кружимся, держась за руки, под сенью странного песнес-плетения, овеянные сладким запахом странного ладана; на странном островке невесомости и высоты, выросшем посреди страны. Эти светлые, свежие, юные люди поют все стройнее и слаженней; мы кружимся уже так быстро, что разноцветные одеяния, заключившие нашу пляску в свободное кольцо, сливаются въедино. Волосы девушки перевязаны широкою лентой, сплошь покрытой затейливым узором. Перекрывая гудливую мелодию, я хвалю эту пеструю тканевую полосу, единственно отличающую мою вольную танцовщицу от прочих ее названых сестер и братьев — счастливых и светлых детей Будды, собравшихся на этом вырванном из вселенной клочке пространства. Когда мы останавливаемся, девушка снимает ленту, освобождая длинные свои русые волосы, и опоясывает ею мою голову. Я смеюсь и отдаю плясунье нитку шаманских янтарей, намоленную в незапамятное вчера молодою чувашской ведьмой. Девушка тоже смеется мне в ответ; пестро и янтарно, солнечно хохочет. Она кажется целиком составленной из золотых теплых бликов, полупрозрачная, словно облако утреннего тумана… Дрожащее видение медленно рассыпалось, смешиваясь с развеселым карнавалом простого пестрого резвого присного вечернего города, разогретого межзвездным моим миражом.

Это третья книга эксцентричного и самобытного поэта-вундеркинда Юлии Мамочевой. В свои девятнадцать «девочка из Питера», покорившая Москву, является автором не только многочисленных стихов и поэм, но и переводов поэтических произведений классиков мировой литературы, выполненных с четырех европейских языков: английского, немецкого, испанского и португальского.В настоящий момент Юлия Мамочева учится на втором курсе факультета международной журналистики МГИМО, поступив в один из самых выдающихся вузов страны во многом благодаря званию призера программы «Умницы и умники».

Пятый сборник поэта и переводчика, члена Союза писателей России, лауреата Бунинской премии Юлии Мамочевой, в который вошли стихотворения, написанные с сентября 2013 года по апрель 2014-го. Книга издана к двадцатилетию автора на деньги, собранные читателями, при финансовой поддержке музыканта, лидера группы «Сурганова и Оркестр» Светланы Яковлевны Сургановой.