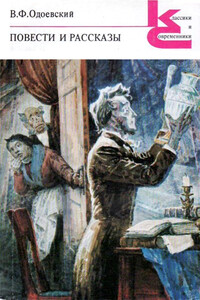Импровизатор - [5]
Сквозь тонкую пелену поэтических выражений он видел все механические подставки создания: оп чувствовал, как бесился поэт, сколько раз переламывал он стихи, которые казались невольно вылившимися из сердца; в самом патетическом мгновении, когда, казалось, все внутренние силы поэта напрягались и перо его не успевало за словами, а слова за мыслями, – Киприяно видел, как поэт протягивал руку за «Академическим словарем»{8} и отыскивал эффектное слово; как посреди восхитительного изображения тишины и мира душевного поэт драл за уши капризного ребенка, надое давшего ему своим криком, и зажимал собственные свои уши от действия женина трещоточного могущества.
Читая историю, Киприяно видел, как утешительные высокие помыслы об общей судьбе человечества, о его постоянном совершенствовании, как глубокомысленные догадки о важных подвигах и характере того или другого народа, которые, казалось, сами выливались из исторических изысканий, – в самом деле держались только искусственным сцеплением сих последних, как это сцепление держалось за сцепление авторов, писавших о том же предмете; это сцепление за искусственное сцепление летописей, а это последнее за ошибку переписчика, на которую, как на иголку, фокусники поставили целое здание.
Вместо того чтоб удивляться стройности философской системы, Киприяно видел, как в философе зародилось прежде всего желание сказать что-нибудь новое; потом попалось ему счастливое, задорное выражение; как к этому выражению он приделал мысль, к этой мысли целую главу, к этой главе книгу, а к книге целую систему; там же, где философ, оставляя свою строгую форму, как бы увлеченный сильным чувством, пускался в блестящее отступление, – там Киприяно видел, что это отступление только служило прикрышкою для среднего термина силлогизма{9}, которого игру слов чувствовал сам философ.
Музыка перестала существовать для Киприяно; в восторженных созвучиях Генделя и Моцарта он видел только воз душное пространство, наполненное бесчисленными шариками, которые один звук отправлял в одну сторону, другой в другую, третий в третью; в раздирающем сердце вопле гобоя, в резком звуке трубы он видел лишь механическое сотрясение в пении страдивариусов и амати{10} – одни животные жилы, по которым скользили конские волосы.
В представлении оперы оп чувствовал лишь мучение сочинения музыки, капельмейстера; слышал, как настраивали инструменты, разучивали роли, словом, ощущал все прелести репетиций; в самых патетических минутах видел бешенство режиссера за кулисами и его споры с статистами и машинистом, крючья, лестницы, веревки, и проч. и проч.
Часто вечером измученный Киприяно выбегал из своего дома на улицу: мимо него мелькали блестящие экипажи; люди с веселыми лицами возвращались от дневных забот под мирный домашний кров; в освещенные окна Киприяно смотрел на картины тихого семейного счастия, на отца и мать, окруженных прыгающими малютками, – но он не имел наслаждения завидовать сему счастию; он видел, как чрез реторту общественных условий и приличий, прав и обязанностей, рассудка и правил нравственности – вырабатывался семейственный яд и прижигал все нервы души каждого из членов семейства; он видел, как нежному, попечительному отцу надоедали его дети; как почтительный сын нетерпеливо ожидал родительской кончины; как страстные супруги, держась рука за руку, помышляли: чем бы поскорее отделаться друг от друга? Киприяно обезумел. Оставив свое отечество, думая спастись от самого себя, пробежал он разные страны, но везде и всегда по-прежнему продолжал все видеть и все понимать.
Между тем и коварный дар стихотворства не дремал в Киприяно. Едва на минуту замолкнет его микроскопическая способность, как стихи водою польются из уст его; едва удержит свое холодное вдохновение, как снова вся природа оживет перед ним мертвою жизнию – и без одежды, неприличная, как нагая, но обутая женщина, явится в глаза ему. С каким горем он вспоминал о том сладком страдании, когда, бывало, на него находило редкое вдохновение, когда неясные образы носились перед ним, волновались, сливались друг с другом!.. Вот образы яснеют, яснеют; из другого мира медленно, как долгий поцелуй любви, тянется к нему рой пиитических созданий; – приблизились, от них пышет не земной теплотою, и природа сливается с ними в гармонических звуках – как легко, как свежо на душе! Тщетное, тяжкое воспоминание! Напрасно хотел Киприяно пересилить борьбу между враждебными дарами Сегелиеля: едва незаметное впечатление касалось раздраженных органов страдальца, и снова микроскопизм одолевал его, и несозрелая мысль прорывалась в выражение.
Долго скитался Киприяно из страны в страну; иногда нужда снова заставляла его прибегать к пагубному Сегелиелеву дару: дар этот доставлял избыток, а с ним и все вещественные наслаждения жизни; но в каждом из наслаждений был яд, и после каждого нового успеха умножалось его страдание.
Наконец он решился не употреблять более своего дара, заглушить, задавить его, купить его ценою нужды и бедности. Но уж поздно! От долговременного борения расшаталось здание души его; поломались тонкие связи, которыми соединены таинственные стихии мыслей и чувствований, – и они распались, как распадаются кристаллы, проржавленные едкою кислотою; в душе его не осталось ни мыслей, ни чувствований: остались какие-то фантомы, облеченные в одежду слов, для него самого непонятных. Нищета, голод истерзали его тело, – и долго брел он, питаясь милостынею и сам не зная куда…
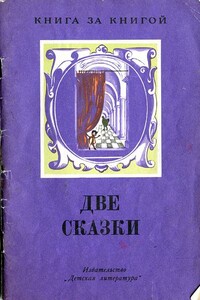
Главный герой книги, а вместе с ним и автор совершают увлекательное путешествие в странный и пугающий механический мир музыкальной шкатулки.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Мороз Иванович» – мудрая сказка о том, что труд и доброта всегда вознаграждаются, а лень и равнодушие ни к чему хорошему не приводят.

«Мне давно уже хотелось посмотреть на жизнь с исключительной точки зрения двух классов людей, присутствующих решительным минутам нашего существования: врача и гробовщика...».

«У обгоревшей избы сидела, подгорюнясь, восьмилетняя сиротинка. Вчера Божий гнев посетил её мачеху; ни с того ни с сего показался огонь из подполицы, пополз по брёвнам, выглянул в волоковое окошко, охватил соломенную крышку – да и выжег всё без остатка…».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Рассказы о море и моряках замечательного русского писателя конца XIX века Константина Михайловича Станюковича любимы читателями. Его перу принадлежит и множество «неморских» произведений, отличающихся высоким гражданским чувством.В романе «Два брата» писатель по своему ставит проблему «отцов и детей», с болью и гневом осуждая карьеризм, стяжательство, холодный жизненный цинизм тех представителей молодого поколения, для которых жажда личного преуспевания заслонила прогрессивные цели, который служили их отцы.

Книга одного из самых необычных русских писателей XX века! Будоражащие, шокирующие романы «Дневник Сатаны», «Иго войны», «Сашка Жегулев» Л Андреева точно и жестко, через мистические образы проникают в самые сокровенные потемки человеческой психики.Леонид Андреев (1871–1919) – писатель удивительно тонкой и острой интуиции, оставивший неповторимый след в русской литературе. Изображение конкретных картин реально-бытовой жизни он смело совмещает с символическим звучанием; экспрессивно, порой через фантастические образы, но удивительно точно и глубоко Андреев проникает в тайное тайных человеческой психики.В книгу вошли известные романы Л.Н.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Впервые опубликовано – в альманахе «Война золотом. Альманах приключении», М. 1927. Издание это изобилует опечатками, обессмысливающими текст. Печатается по автографу (ЦГАЛИ).

«Бал разгорался час от часу сильнее; тонкий чад волновался над бесчисленными тускнеющими свечами; сквозь него трепетали штофные занавесы, мраморные вазы, золотые кисти, барельефы, колонны, картины; от обнаженной груди красавиц поднимался знойный воздух и часто, когда пары, будто бы вырвавшиеся из рук чародея, в быстром кружении промелькали перед глазами, – вас, как в безводных степях Аравии, обдавал горячий, удушающий ветер…».

Мысль о новелле, посвященной Бетховену, зародилась у Одоевского, видимо, сразу же после получения известия о смерти композитора.Рассказ основан на вымысле не менее, чем на исторических преданиях и фактах: в нем рядом с реальным Бетховеном действует не существовавшая Луиза и т. д. По своему жанру рассказ является родом романтической новеллы, которая тяготеет к смешению фантастического и действительного, к загадочному и неопределенному. Из рассказа мы не узнаем даже, о каком именно из последних квартетов Бетховена идет речь.

Себастьян Бах был любимейшим композитором Одоевского с ранней юности и до конца дней. Он был его «учебною книгой» и постоянной радостью и наслаждением. Под датой 12 декабря 1864 г. он записывает в своем дневнике о впечатлении от сюиты Баха: «Точно ходишь в галерее, наполненной Гольбейном и А. Дюрером» (Литературное наследство. Т. 22–24. М., 1935, с. 188).

«…Дорога тянулась между скал, поросших мохом. Лошади скользили, поднимаясь на крутизну, и наконец совсем остановились. Мы принуждены были выйти из коляски…Тогда только мы заметили на вершине почти неприступного утеса нечто, имевшее вид человека. Это привидение, в черной епанче, сидело недвижно между грудами камней в глубоком безмолвии…».