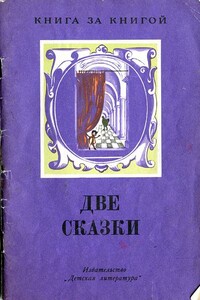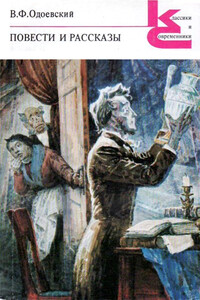Это происшествие навело сначала всеобщий ужас, и хотя Сегелиель, после своего процесса, переселился в город Б…, где снова начал вести столь же роскошную жизнь, как и прежде, но многие из жителей его родины, знавшие – подробно все обстоятельства процесса и раздраженные поступками Сегелиеля, не оставили своего плана – погубить. Они обратились к старикам, помнившим еще прежние процессы о чародействе, и, потолковав с ними, составили новый донос, в котором изъясняли, что хотя по существующим законам и нельзя обвинить доктора Сегелиеля, но что нельзя и не видеть во всех его действиях какой-то сверхъестественной силы, и вследствие того просили: придерживаясь к прежним законам о чародействе, снова разыскать все дело. К счастию Сегелиеля, судьи, к которым попалась эта просьба, были люди просвещенные: один из них был известен переводом Локка на отечественный язык; другой – весьма важным сочинением о юриспруденции, к которой он применил Кантову систему; третий оказал значительные услуги атомистической химии. Они не могли удержаться от смеха, читая эту странную просьбу, возвратили ее просителям, как недостойную уважения, а один из них, по добродушию, прибавил к тому изъяснение всех случаев, казавшихся просителям столь чудесными; и – благодаря европейскому просвещению доктор Сегелиель продолжал вести свою роскошную жизнь, собирать у себя все лучшее общество, лечить на предлагаемых им условиях, а враги его продолжали занемогать и умирать по-прежнему.
К этому страшному человеку решился идти наш будущий импровизатор. Как скоро его впустили, он бросился доктору на колени и сказал: «Господин доктор! Господин Сегелиель! Вы видите пред собою несчастнейшего человека в свете: природа дала мне страсть к стихотворству, но отняла у меня все средства следовать этому влечению. Нет у меня способности мыслить, нет способности выражаться; хочу говорить – слова забываю, хочу писать – еще хуже; не мог же бог осудить меня па такое вечное страдание! Я уверен, что мое несчастие происходит от какой-нибудь болезни, от какой-то нравственной натуги, которую вы можете вылечить».
– Вишь, Адамовы сынки, – сказал доктор (это была его любимая поговорка в веселый час), – Адамовы детки! Все помнят батюшкину привилегию; им бы все без труда доставалось! И получше вас работают на сем свете. Но, впрочем, так уж и быть, – прибавил он, помолчав, – я тебе помогу; да ты ведь знаешь, у меня есть свои условия…
– Какие хотите, господин доктор! – что б вы ни предложили, на все буду согласен; все лучше, нежели умирать ежеминутно.
– И тебя не испугало все, что в вашем городе про меня рассказывают?
– Нет, господин доктор! Хуже того положения, в котором я теперь нахожусь, вы не выдумаете. (Доктор засмеялся.) Я буду с вами откровенен: не одна поэзия, не одно желание славы привели меня к вам; но и другое чувство, более нежное… Будь я половчее на письме, я бы мог обеспечить мое состояние, и тогда бы моя Шарлотта была ко мне благосклоннее… Вы понимаете меня, господин доктор?
– Вот это я люблю, – вскричал Сегелиель, – я, как наша матушка инквизиция, до смерти люблю откровенность и полную ко мне доверенность; беда бывает только тому, кто захочет с нами хитрить. Но ты, я вижу, человек прямой и откровенный; и надобно наградить тебя по достоинству. Итак, мы соглашаемся исполнить твою просьбу и дать тебе способность производить без труда; но первым условием нашим будет то, что эта способность никогда тебя не оставит: согласен ли ты на это?
– Вы шутите надо мною, господин Сегелиель!
– Нет, я человек откровенный и не люблю скрывать ничего от люден, мне предающихся. Слушай и пойми меня хорошенько: способность, которую я даю тебе, сделается частик тебя самого; она не оставит тебя ни на минуту в жизни, с тобою будет расти, созревать и умрет вместо с тобою. Согласен ли ты на это?
– Какое же в том сомнение, г. доктор?
– Хорошо. Другое мое условие состоит в следующем: ты будешь все видеть, все знать, все понимать. Согласен ли ты на это?
– Вы, право, шутите, господин доктор! Я не знаю, как благодарить вас… Вместо одного добра вы даете мне два, как же на это не согласиться!
– Пойми меня хорошенько: ты будешь все знать, все видеть, все понимать. – Вы благодетельнейший из людей, господин Сегелиель!
– Так ты согласен?
– Без сомнения; нужна вам расписка?
– Не нужно! Это было хорошо в то время, когда не существовало между людьми заемных писем; а теперь люди стали хитры; обойдемся и без расписки; сказанного слова так же топором не вырубишь, как и писанного. Ничто в свете, любезный приятель, ничто не забывается и не уничтожается.
С этими словами Сегелиель положил одну руку на голову поэта, а другую на его сердце, и самым торжественным голосом проговорил:
«От тайных чар прими ты дар: обо всем размышлять, все па свете читать, говорить и писать, красно и легко, слезно и смешно, стихами и в прозе, в тепле и морозе, наяву и во сне, на столе, на песке, ножом и пером, рукой, языком, смеясь и в слезах, па всех языках…»
Сегелиель сунул в руку поэту какую-то бумагу и поворотил его к дверям.
Когда Кипрпяно вышел от Сегелиеля, то доктор с хохотом закричал: «Пепе! фризовую шинель!» – «Агу!» – раздалось со всех полок докторской библиотеки, как во 2-м действии Фрейшюца