Империя - [154]
В эпоху европейского Просвещения такие авторы, как Монтескье и Гиббон, отвергли натуралистическое представление об этом процессе. С точки зрения науки об обществе упадок Империи объяснялся как следствие невозможности установить раз и навсегда исторические и социальные структурные рамки жизни масс и сохранять неизменной добродетель ее героев. Разложение и упадок Империи были, таким образом, не заранее предполагаемым естественным процессом, предначертанным циклами исторической судьбы, а результатом невозможности (или, по крайней мере, исключительной трудности) для человека управлять бесконечным пространством и временем. Безграничность Империи делала невозможным функционирование правильных институтов и их сохранение на неопределенно долгое время. Тем не менее, Империя была целью, на достижение которой были направлены желание и гражданская добродетель масс, а также свойственная им способность творить историю. Именно постоянное изменение ситуации не позволяло обеспечить контроль над безграничным пространством и временем, что неизбежно ограничивало всеобъемлющие цели управления узкими политическими и социальными аспектами. Авторы эпохи Просвещения показали нам, что со временем правление, приближающееся к совершенству, будет установлено в пределах ограниченного пространства и времени. Поэтому между Империей и реальное-тью господства присутствовало принципиальное противоречие, которое неминуемо должно было порождать кризисы.
В действительности, Макиавелли, оглядываясь на идеи древних и предвосхищая идеи мыслителей эпохи современности, первым наиболее точно выявил парадокс Империи[520]. Он прояснил проблематику, отделив ее как от натурализма древних, так и от социологизма, свойственного теориям эпохи современности, показав ее, скорее, в поле имманенции и чистой политики. У Макиавелли расширяющие границы своих владений структуры власти движимы диалектикой социальных и политических сил Республики. Только там, где социальные классы политически выражают себя, участвуя в открытой и непрерывной игре власти и контрвласти, свобода и расширение границ взаимосвязаны, и, следовательно, появляется возможность для возникновения Империи. Макиавелли говорит, что нет такой идеи Империи, которая не была бы в конечном итоге всеобъемлющей идеей свободы. Именно в этой диалектике свободы и заключаются элементы разложения и распада. Когда Макиавелли рассматривает падение Римской империи, он в первую очередь обращает внимание на кризис гражданской религии, то есть на ослабление социальной связи, объединявшей различные идеологические силы общества и позволявшей им сообща участвовать в открытом взаимодействии власти и контрвласти. Христианская религия была именно тем, что разрушило Римскую империю, погасив гражданский пыл, который служил основой языческого общества, конфликтное, но лояльное участие граждан в постоянном совершенствовании институтов и развитии свободы.
Античное представление о неизбежном и естественном характере разложения правильных форм правления, таким образом, оказалось полностью отброшено, поскольку формы правления можно оценивать только во взаимосвязи с социальными и политическими отношениями, создающими институты. Точно так же отброшено было свойственное Просвещению и современности представление о неизбежности кризиса пространства и времени в условиях отсутствия границ и контроля, потому что оно возвращало к сфере гражданской власти: только на этом и ни на каком ином основании можно оценивать пространство и время. Выбор, таким образом, делается не между правлением и разложением, Империей и распадом, а между, с одной стороны, социально укорененным и расширяющим свои границы правлением, то есть правлением "гражданским" и "демократическим", а с другой — различными практиками правления, когда власть основывается на трансценденции и подавлении. Здесь необходимо пояснить, что, когда мы, беря их в кавычки, говорим о понятиях "града" или "демократии" как об основе экспансионистской активности Республики и как о единственной возможности образования прочной Империи, мы вводим идею участия, связанного с жизненной силой населения и его способностыо порождать диалектику власти и контрвласти, — идею, которая имеет мало общего с классической или характерной для современности идеей демократии. С такой точки зрения "демократическим" в какой-то степени были даже правление Чингисхана и Тамерлана, а также легионов Цезаря, армий Наполеона и армий Сталина и Эйзенхауэра, ибо все они сделали возможным участие населения, которое поддерживало их экспансионистскую деятельность. Суть всех перечисленных примеров и общей идеи Империи заключается в утверждении пространства имманентности. Имманентность определяется как отсутствие всяких внешних ограничений, задаваемых той или иной направленностью действия масс, причем в своем утверждении и разрушении имманентность связана лишь с режимами возможности, которые служат основой ее возникновения и развития.
Здесь мы возвращаемся к сути парадокса, согласно которому всякая теория Империи предполагает возможность ее упадка, но теперь мы можем приступить к его объяснению. Если Империя всегда олицетворяет безусловную позитивность, осуществление правления масс и всецело имманентный аппарат, то она оказывается незащищенной от кризиса в силу самого этого определения, а не потому, что ей противостоит какая-то иная необходимость или трансценденция. Кризис свидетельствует о существовании альтернативной возможности в плане имманенции; кризис не предопределен, но всегда возможен. Макиавелли помогает нам понять этот имманентный, конститутивный и онтологический смысл кризиса. Однако лишь в нынешней ситуации это сосуществование кризиса и поля имманентности становится полностью очевидным. Поскольку пространственное и временное измерения политической деятельности перестают быть пределами и превращаются в созидающие механизмы имперского правления, сосуществование позитивного и негативного в пространстве имманентности теперь выступает как открытая альтернатива. Сегодня одни и те же движения и тенденции служат причиной и возникновения, и распада Империи.
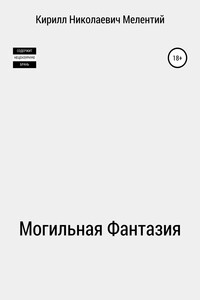
Самоубийство или суицид? Вы не увидите в этом рассказе простое понимание о смерти. Приятного Чтения. Содержит нецензурную брань.
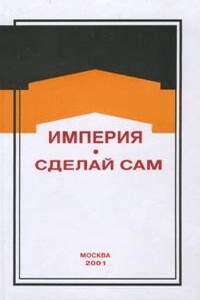
Автор, являющийся одним из руководителей Литературно-Философской группы «Бастион», рассматривает такого рода образования как центры кристаллизации при создании нового пассионарного суперэтноса, который создаст счастливую православную российскую Империю, где несогласных будут давить «во всем обществе снизу доверху», а «во властных и интеллектуальных структурах — не давить, а просто ампутировать».

Автор, кандидат исторических наук, на многочисленных примерах показывает, что империи в целом более устойчивые политические образования, нежели моноэтнические государства.
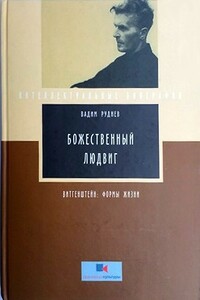
Книга представляет собой интеллектуальную биографию великого философа XX века. Это первая биография Витгенштейна, изданная на русском языке. Особенностью книги является то, что увлекательное изложение жизни Витгенштейна переплетается с интеллектуальными импровизациями автора (он назвал их «рассуждениями о формах жизни») на темы биографии Витгенштейна и его творчества, а также теоретическими экскурсами, посвященными основным произведениям великого австрийского философа. Для философов, логиков, филологов, семиотиков, лингвистов, для всех, кому дорого культурное наследие уходящего XX столетия.
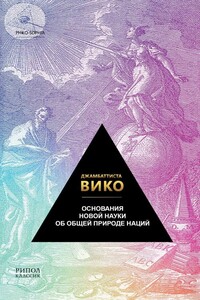
Вниманию читателя предлагается один из самых знаменитых и вместе с тем экзотических текстов европейского барокко – «Основания новой науки об общей природе наций» неаполитанского философа Джамбаттисты Вико (1668–1774). Создание «Новой науки» была поистине титанической попыткой Вико ответить на волновавший его современников вопрос о том, какие силы и законы – природные или сверхъестественные – приняли участие в возникновении на Земле человека и общества и продолжают определять судьбу человечества на протяжении разных исторических эпох.
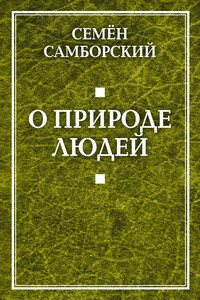
В этом сочинении, предназначенном для широкого круга читателей, – просто и доступно, насколько только это возможно, – изложены основополагающие знания и представления, небесполезные тем, кто сохранил интерес к пониманию того, кто мы, откуда и куда идём; по сути, к пониманию того, что происходит вокруг нас. В своей книге автор рассуждает о зарождении и развитии жизни и общества; развитии от материи к духовности. При этом весь процесс изложен как следствие взаимодействий противоборствующих сторон, – начиная с атомов и заканчивая государствами.