Императорское королевство. Золотой юноша и его жертвы - [12]
Прежде чем Юришич вошел в камеру к Петковичу, он заглянул в глазок. Возможно, Петкович опять пишет свои прошения в придворные канцелярии, в которых утверждает, что невиновен, и просит у императора помилования. Такие прошения он строчит уже месяц, по два-три в неделю. А в последнее время, сочиняя их, он бывает молчалив и с недоверием смотрит на каждого, кто заходит к нему, боязливо и поспешно прячет бумагу в ящик стола.
Однако на этот раз, хоть перед Петковичем и лежит бумага, он не пишет, а рвет ее на мелкие кусочки. Неужели это он просьбу к императору рвет? Бумажные листы неисписаны. Сидит Петкович, повернувшись боком к окну, поднял вверх голову, на пальцы свои не смотрит, а с них спархивают белые хлопья бумаги. Верхняя фрамуга открыта. По стеклу горизонтально лежащей рамы с разбросанными по нему крошками хлеба расхаживают голуби, постукивают клювами, воркуют в альтовом регистре.
— Гугугу, гугу, — повторяет за ними Петкович, в глухом его гугуканье чувствуются какая-то радость и насмешка. — Гугу, гугу…
Вот он поднял руку, шлет голубям воздушный поцелуй. Потом встает во весь рост с полной горстью бумажных хлопьев и рассыпает их по стеклу. Голуби испугались, вспорхнули и тут же снова сели. Клюют, в поисках крошек переворачивают клочки бумаги. И не понимает Юришич, что же здесь все-таки происходит, и в то же время ему до боли ясно, что Петкович на самом деле принимает бумажные обрывки за кусочки хлеба и хочет ими накормить голубей.
— Гугу, гугу, — гугучет Петкович и снова садится, озаренный светлой улыбкой. Он бросил взгляд в сторону двери и рассмеялся, но тут же замолк, наверное, приметив, что за ним наблюдают через глазок. Юришич отпрянул в сторону. Но уже ничего иного не оставалось, как войти и улыбаться самому, чтобы развеять испуг, охвативший Петковича.
— А, это вы? — сразу успокоился Петкович, как только увидел его. И в прежнем своем добродушном настроении засуетился в узком пространстве камеры, подыскивая, куда бы усадить гостя. — Пожалуйста, пожалуйста, господин Юришич! — он наконец предложил ему стул, а сам пристроился на койке.
С улыбкой, которой, в сущности, хотел скрыть свое возбуждение, Юришич сел на стул.
— Я вам помешал, господин Петкович, а вижу, и вашим гостям, — Юришич посмотрел в сторону опустевшего окна, скрип открываемой двери спугнул голубей.
— О, ничего, ничего, они опять появятся. Мы с ними старые знакомые, еще из Безни.
— Но голуби не едят бумагу.
— Бумагу? Ах, да! Видите ли, хлеб унес тот мальчик, все его зовут Грош. А потом, раз я мог надуть владельца ресторана, ха-ха-ха, почему бы не обмануть немножко и голубей! Это ведь ненаказуемо.
— Я не верю, господин Петкович, что вы кого-то могли обмануть, тем более хозяина ресторана. Вы сами называете это надувательством.
— Надувательством? Откуда вы взяли? — Петкович встал, улыбка исчезла с его лица, и какая-то тоска мрачной тенью скользнула по нему. Но тут же Петкович снова просветлел. — Вы думаете, что я сбил с толку голубей или в самом деле принимаю эти бумажные обрывки за крошки хлеба? Нет, нет, я знаю — это просто бумажки. Кто вам сказал, что я поступил нечестно с хозяином ресторана?
— Никто. И не вы — вас кто-то одурачил. Я все время задаюсь вопросом, — украдкой заглянул Юришич в лицо Петковичу, — уж не сделал ли это доктор Пайзл?
— Доктор Пайзл? — снова нахмурился Петкович и тут же улыбнулся. — Да, когда он был мальчишкой — мы давно знакомы, вместе учились в гимназии, — он безумно любил ловить голубей бечевкой на приманку из кукурузных зерен.
— А не случилось ли ненароком, что и вы, господин Петкович, проглотили кукурузное зерно Пайзла? Вы верите, что он вам добра желает? Я, впрочем, не знаю. Мне только кажется, что именно он затащил вас на какой-то бечевке в эту камеру.
Чтобы сгладить резкость своих слов, Юришич улыбался. С Петковичем, как видно, надо быть осторожнее, вот он будто снова забеспокоился, вздрогнул, встал с койки: понял его, теперь, вероятно, точно понял. До этой минуты он словно был мысленно с голубями.
— Чего вы хотите? Кто вам это сказал? Знаю — Рашула. Он все время хочет натравить меня на Пайзла.
— Как? — встрепенулся Юришич, но тут же осекся. Он знал, что между Пайзлом и Рашулой существует глубокий разлад, и еще заметил, как Рашула в последние дни постоянно трется возле Петковича. Без сомнения, все сказанное Петковичем верно. Но почему Петкович полагает, что он хочет натравить его на Пайзла? — Мне сказал не Рашула, а Мачек. Это ваш старый приятель.
— По-вашему, Мачек мне приятель? Я полагаю, он скорее приятель Рашуле, а не мне.
— Это я и сам заметил. Но мне кажется, что и доктор Пайзл вам не друг.
— Пайзл не друг даже самому себе. Он друг и приятель только своей жене. Все ради женщины и делается, господин Юришич, ради женщины. Понимаете ли вы это? Но я им прощаю, я всем прощаю.
Он подошел к Юришичу и впился в него своими черными как смоль глазами. А слово «женщина» он произнес с особым оттенком и столь значительно, что оно прозвучало одновременно и мелодично, и как диссонанс… Какую женщину Петкович имел в виду? Может быть, жену Пайзла — свою сестру Елену? Несомненно. Но одновременно он, должно быть, вспомнил и Регину Рендели, потому что взгляд его сейчас был точно таким же, каким становится всякий раз, когда из-за Регины над ним подшучивают писари. В такие минуты он только усмехается, как будто это подшучивание ему даже приятно, однако усмешка выходит горькой.

Романы Августа Цесарца (1893–1941) «Императорское королевство» (1925) и «Золотой юноша и его жертвы» (1928), вершинные произведем классика югославской литературы, рисуют социальную и духовную жизнь Хорватии первой четверти XX века, исследуют вопросы террора, зарождение фашистской психологии насилия.
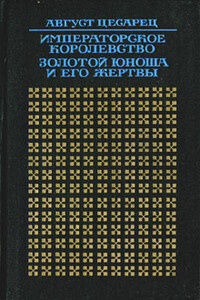
Романы Августа Цесарца (1893–1941) «Императорское королевство» (1925) и «Золотой юноша и его жертвы» (1928), вершинные произведем классика югославской литературы, рисуют социальную и духовную жизнь Хорватии первой четверти XX века, исследуют вопросы террора, зарождение фашистской психологии насилия.

Конец XIX века, научно-технический прогресс набирает темпы, вовсю идут дебаты по медицинским вопросам. Эмансипированная вдова Кора Сиборн после смерти мужа решает покинуть Лондон и перебраться в уютную деревушку в графстве Эссекс, где местным викарием служит Уилл Рэнсом. Уже который день деревня взбудоражена слухами о мифическом змее, что объявился в окрестных болотах и питается человеческой плотью. Кора, увлеченная натуралистка и энтузиастка научного знания, не верит ни в каких сказочных драконов и решает отыскать причину странных россказней.

Когда-то своим актерским талантом и красотой Вивьен покорила Голливуд. В лице очаровательного Джио Моретти она обрела любовь, после чего пара переехала в старинное родовое поместье. Сказка, о которой мечтает каждая женщина, стала явью. Но те дни канули в прошлое, блеск славы потускнел, а пламя любви угасло… Страшное событие, произошедшее в замке, разрушило счастье Вивьен. Теперь она живет в одиночестве в старинном особняке Барбароссы, храня его секреты. Но в жизни героини появляется молодая горничная Люси.

Генезис «интеллигентской» русофобии Б. Садовской попытался раскрыть в обращенной к эпохе императора Николая I повести «Кровавая звезда», масштабной по содержанию и поставленным вопросам. Повесть эту можно воспринимать в качестве своеобразного пролога к «Шестому часу»; впрочем, она, может быть, и написана как раз с этой целью. Кровавая звезда здесь — «темно-красный пятиугольник» (который после 1917 года большевики сделают своей государственной эмблемой), символ масонских кругов, по сути своей — такова концепция автора — антирусских, антиправославных, антимонархических. В «Кровавой звезде» рассказывается, как идеологам русофобии (иностранцам! — такой акцент важен для автора) удалось вовлечь в свои сети цесаревича Александра, будущего императора-освободителя Александра II.

Андрей Ефимович Зарин (1862–1929) известен российскому читателю своими историческими произведениями. В сборник включены два романа писателя: «Северный богатырь» — о событиях, происходивших в 1702 г. во время русско-шведской войны, и «Живой мертвец» — посвященный времени царствования императора Павла I. Они воссоздают жизнь России XVIII века.
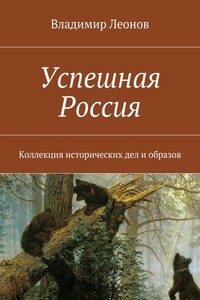
Из великого прошлого – в гордое настоящее и мощное будущее. Коллекция исторических дел и образов, вошедших в авторский проект «Успешная Россия», выражающих Золотое правило развития: «Изучайте прошлое, если хотите предугадать будущее».

«На берегу пустынных волн Стоял он, дум великих полн, И вдаль глядел». Великий царь мечтал о великом городе. И он его построил. Град Петра. Не осталось следа от тех, чьими по́том и кровью построен был Петербург. Но остались великолепные дворцы, площади и каналы. О том, как рождался и жил юный Петербург, — этот роман. Новый роман известного ленинградского писателя В. Дружинина рассказывает об основании и первых строителях Санкт-Петербурга. Герои романа: Пётр Первый, Меншиков, архитекторы Доменико Трезини, Михаил Земцов и другие.
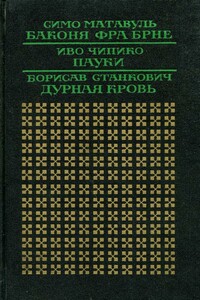
Симо Матавуль (1852—1908), Иво Чипико (1869—1923), Борисав Станкович (1875—1927) — крупнейшие представители критического реализма в сербской литературе конца XIX — начала XX в. В книгу вошли романы С. Матавуля «Баконя фра Брне», И. Чипико «Пауки» и Б. Станковича «Дурная кровь». Воссоздавая быт и нравы Далмации и провинциальной Сербии на рубеже веков, авторы осуждают нравственные устои буржуазного мира, пришедшего на смену патриархальному обществу.

В лучшем произведении видного сербского писателя-реалиста Бранимира Чосича (1903—1934), романе «Скошенное поле», дана обширная картина жизни югославского общества после первой мировой войны, выведена галерея характерных типов — творцов и защитников современных писателю общественно-политических порядков.
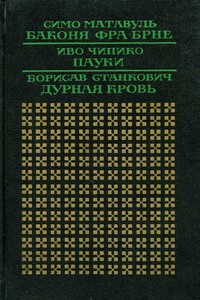
Симо Матавуль (1852—1908), Иво Чипико (1869—1923), Борисав Станкович (1875—1927) — крупнейшие представители критического реализма в сербской литературе конца XIX — начала XX в. В книгу вошли романы С. Матавуля «Баконя фра Брне», И. Чипико «Пауки» и Б. Станковича «Дурная кровь». Воссоздавая быт и нравы Далмации и провинциальной Сербии на рубеже веков, авторы осуждают нравственные устои буржуазного мира, пришедшего на смену патриархальному обществу.
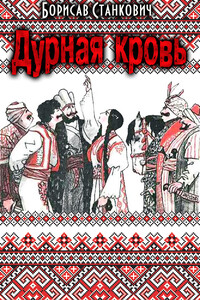
Борисав Станкович (1875—1927) — крупнейший представитель критического реализма в сербской литературе конца XIX — начала XX в. В романе «Дурная кровь», воссоздавая быт и нравы Далмации и провинциальной Сербии на рубеже веков, автор осуждает нравственные устои буржуазного мира, пришедшего на смену патриархальному обществу.