Императорское королевство - [17]
Вчера его опять водили на допрос. На самый страшный до сих пор, потому что вчера он чуть было не признался во всем. Чуть было? А может быть, как раз признался? Прижал его следователь; сколько можно тянуть резину, кричал, он велит обыскать его квартиру, арестует жену, если что обнаружится! Мутавац вилял, путался, согласился с предположением, что секретная книга существовала, но тут же быстро опамятовался и стал все отрицать. Вот так обстояли дела с его заверениями, что он ни в чем не признался. Так он говорил и Рашуле, когда тот на него накинулся, так, страшась, что сболтнул лишнее, твердит и сейчас. Твердит, а сам чувствует, что силы его на исходе и что при следующей встрече со следователем он сдастся. Боже мой, может, это и к лучшему, ведь не ровен час найдут книгу и арестуют его жену?
Размышляя об этом, Мутавац ждал передачу, которую ему должна была принести жена. Пора бы ей прийти. Где она так долго задерживается? А что, если уже… нет-нет! Придет, еще не так поздно! Но он опять ее, наверное, не увидит, вот уже несколько дней ей не удается проникнуть во двор. Хотя бы сегодня пустили!
Ждет Мутавац, и фамилия Петкович, столь часто упоминаемая всеми вокруг, врезается ему в мозг. Петкович — это тот самый, что как-то после его свидания с женой у тюремных ворот подошел к нему, обнимал, расспрашивал о жене, жалел и его и ее. Почему так заинтересовался этот бабник, как его все здесь называют, его женой? Вспоминает Мутавац черный, горящий взгляд Петковича, тоскливо и страшно ему за себя и за жену. Но чего ему сейчас бояться? Говорят, Петкович сумасшедший. Пропадет он, несчастный. Но может быть, это счастье — сгинуть, потеряв разум?
Уставился Мутавац гноящимися глазами в угол с козлами, как будто видит там ответ на свой вопрос. «Мутавац! К следователю!» — Окрик заставил его вздрогнуть. Он не обернулся — знает, это Рашула, отвернувшись в сторону и изменив голос, пытается его припугнуть.
Рашула много раз выкидывал такие штучки и всякий раз улыбался от удовольствия. Так было и сейчас. Но почему молчит Розенкранц?
— Na, und Sie? — Рашула пнул его в хромую ногу. — Schweigsamwie аш Eise? Totenphilosophie, was?[10]
— Der Kerl is wirklich naerrisch![11] — брякнул Розенкранц без всякой, кажется, связи с замечанием Рашулы. Все это время он думает о Петковиче, и не без оснований. После долгого и безуспешного торга между Рашулой и Пайзлом в нем созрела мысль попытаться самому договориться с Пайзлом. Он наконец решился на это вчера, когда узнал, что Пайзл выйдет на свободу. Поначалу все шло гладко. Пайзл больше не заставлял его отказываться от показаний. Неприятно было только одно — он все еще требовал выплаты большого денежного задатка. И на это бы он пошел, если бы Пайзл не настаивал еще на одном тяжелом условии, которое предлагал ему с самого начала: Розенкранц должен симулировать сумасшествие. Как? — мучился Розенкранц со вчерашнего дня. Он понимал, что время идет, и Пайзл — если на этот раз все без обмана — в любую минуту может оказаться на свободе. Надо, значит, поспешить с решением!
Таким образом, сумасшествие Петковича — сумасшествие или симуляция, не важно — придало ему смелости, и он чувствовал, что готов решиться. Бери с него пример, советовал ему Пайзл вчера, — надо просто копировать его, но с теми или иными различиями, чтобы не заподозрили подвоха. Ну а потом — в психбольницу и уж оттуда на свободу. Ma lieber Gott[12], как приятно было бы вернуться в свою лавку, к своей Саре! На добытые деньги, вероятно, можно было бы основать какое-нибудь дельце. Это было бы справедливо; s muss doch ane Gerechtigkeit auf der Welt sein![13] Хорошо бы еще получилось так, чтобы он из тюрьмы вышел, а Рашула остался! Так оно и будет! Его захлестнула волна оптимизма, вызвав приятное возбуждение, словно теплая купель. Взволнованный, едва скрывающий радость, решив, что, признавая сумасшествие Петковича, он оправдывает и свою симуляцию, Розенкранц пробормотал в ответ на вопрос Рашулы: wer ist närrisch:[14]
— S is nicht dass er simuliert, er is wirklich a Narr![15]
— Ja, ja, — издевается Рашула, — so wie Sie[16].
— Was, wie Ich?[17] — обиделся Розенкранц. Рашула, конечно, не знает (наверняка не знает) о его вчерашнем разговоре с Пайзлом (так хотел Пайзл). Ведь не раз и они между собой говорили о симуляции, причем Рашула вечно насмехался над этим предложением Пайзла. Как бы он издевался над Розенкранцем, если бы узнал, что тот согласился с предложением Пайзла! Разве Рашула не предал бы его? Оптимизм Розенкранца померк, тенью скользнув еще в следующих словах: — Na ja, s wird alles gut sein![18]
— Was wird gut?[19] — оскалился Рашула.
— Na ja, unser Schicksal, meine ich. Sonst müsste man sich selbst auffressen[20].
— Ja, sich selbst, wenn es den Juden das Schweinefleisch zu essen gestattet ware…[21]
— Wie, wie?[22] — вертится оскорбленный и озлобившийся Розенкранц. Но он еще не нашелся, что ответить, как Рашула встал и, не взглянув на него, пошел к воротам.
В ворота просунулась голова, большая, взлохмаченная, седая, в высокой шапке, смешно сдвинутой на затылок. Вслед за головой во двор просунулось и тут же застыло грузное тело, огромный бурдюк с резким несоответствием между громоздким туловищем и тонюсенькими ногами. По установившейся привычке каждое утро, прежде чем зайти в канцелярию, во двор заглядывает начальник тюрьмы Вайда. При ходьбе он качается, тело его колышется, ноги едва держат его, подгибаются, и кажется, что человек в любую минуту свалится. Да и характер у него такой же несуразный. Тяжелый, неуклюжий, слабый, податливый, добрый и мягкий как воск и как будто нерешительный. Но когда Вайда вдруг вспоминал, что он все-таки что-то значит в своем тюремном заведении, он становился неумолимым, суровым, неистовым. С писарями он добр, так как сам в прошлом был фельдфебелем, уважает в них образованность. Вайда уже стар, со службой едва справляется и поэтому — мучительно ожидая пенсии — охотно принимает советы от писарей и особенно от Рашулы, который в последнее время проявлял особое усердие. И сейчас Рашула подскочил к нему, желает ему доброе утро, расспрашивает о делах в семье — о жене и двух дочерях, которые позавчера уехали погостить к родным в село, а сегодня вечером, замечает начальник тюрьмы, возвращаются.

Романы Августа Цесарца (1893–1941) «Императорское королевство» (1925) и «Золотой юноша и его жертвы» (1928), вершинные произведем классика югославской литературы, рисуют социальную и духовную жизнь Хорватии первой четверти XX века, исследуют вопросы террора, зарождение фашистской психологии насилия.
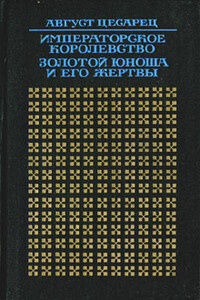
Романы Августа Цесарца (1893–1941) «Императорское королевство» (1925) и «Золотой юноша и его жертвы» (1928), вершинные произведем классика югославской литературы, рисуют социальную и духовную жизнь Хорватии первой четверти XX века, исследуют вопросы террора, зарождение фашистской психологии насилия.

Жестокой и кровавой была борьба за Советскую власть, за новую жизнь в Адыгее. Враги революции пытались в своих целях использовать национальные, родовые, бытовые и религиозные особенности адыгейского народа, но им это не удалось. Борьба, которую Нух, Ильяс, Умар и другие адыгейцы ведут за лучшую долю для своего народа, завершается победой благодаря честной и бескорыстной помощи русских. В книге ярко показана дружба бывшего комиссара Максима Перегудова и рядового буденновца адыгейца Ильяса Теучежа.

Повесть о рыбаках и их детях из каракалпакского аула Тербенбеса. События, происходящие в повести, относятся к 1921 году, когда рыбаки Аральского моря по призыву В. И. Ленина вышли в море на лов рыбы для голодающих Поволжья, чтобы своим самоотверженным трудом и интернациональной солидарностью помочь русским рабочим и крестьянам спасти молодую Республику Советов. Автор повести Галым Сейтназаров — современный каракалпакский прозаик и поэт. Ленинская тема — одна из главных в его творчестве. Известность среди читателей получила его поэма о В.

Автобиографические записки Джеймса Пайка (1834–1837) — одни из самых интересных и читаемых из всего мемуарного наследия участников и очевидцев гражданской войны 1861–1865 гг. в США. Благодаря автору мемуаров — техасскому рейнджеру, разведчику и солдату, которому самые выдающиеся генералы Севера доверяли и секретные миссии, мы имеем прекрасную возможность лучше понять и природу этой войны, а самое главное — характер живших тогда людей.

В 1959 году группа туристов отправилась из Свердловска в поход по горам Северного Урала. Их маршрут труден и не изведан. Решив заночевать на горе 1079, туристы попадают в условия, которые прекращают их последний поход. Поиски долгие и трудные. Находки в горах озадачат всех. Гору не случайно здесь прозвали «Гора Мертвецов». Очень много загадок. Но так ли всё необъяснимо? Автор создаёт документальную реконструкцию гибели туристов, предлагая читателю самому стать участником поисков.

Мемуары де Латюда — незаменимый источник любопытнейших сведений о тюремном быте XVIII столетия. Если, повествуя о своей молодости, де Латюд кое-что утаивал, а кое-что приукрашивал, стараясь выставить себя перед читателями в возможно более выгодном свете, то в рассказе о своих переживаниях в тюрьме он безусловно правдив и искренен, и факты, на которые он указывает, подтверждаются многочисленными документальными данными. В том грозном обвинительном акте, который беспристрастная история составила против французской монархии, запискам де Латюда принадлежит, по праву, далеко не последнее место.
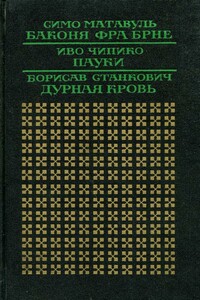
Симо Матавуль (1852—1908), Иво Чипико (1869—1923), Борисав Станкович (1875—1927) — крупнейшие представители критического реализма в сербской литературе конца XIX — начала XX в. В книгу вошли романы С. Матавуля «Баконя фра Брне», И. Чипико «Пауки» и Б. Станковича «Дурная кровь». Воссоздавая быт и нравы Далмации и провинциальной Сербии на рубеже веков, авторы осуждают нравственные устои буржуазного мира, пришедшего на смену патриархальному обществу.

В лучшем произведении видного сербского писателя-реалиста Бранимира Чосича (1903—1934), романе «Скошенное поле», дана обширная картина жизни югославского общества после первой мировой войны, выведена галерея характерных типов — творцов и защитников современных писателю общественно-политических порядков.
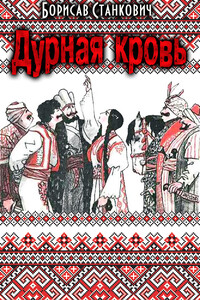
Борисав Станкович (1875—1927) — крупнейший представитель критического реализма в сербской литературе конца XIX — начала XX в. В романе «Дурная кровь», воссоздавая быт и нравы Далмации и провинциальной Сербии на рубеже веков, автор осуждает нравственные устои буржуазного мира, пришедшего на смену патриархальному обществу.
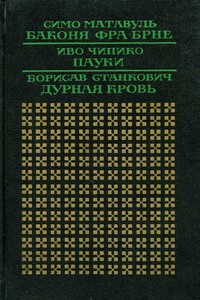
Симо Матавуль (1852—1908), Иво Чипико (1869—1923), Борисав Станкович (1875—1927) — крупнейшие представители критического реализма в сербской литературе конца XIX — начала XX в. В книгу вошли романы С. Матавуля «Баконя фра Брне», И. Чипико «Пауки» и Б. Станковича «Дурная кровь». Воссоздавая быт и нравы Далмации и провинциальной Сербии на рубеже веков, авторы осуждают нравственные устои буржуазного мира, пришедшего на смену патриархальному обществу.
