Имажинист Мариенгоф - [8]
Для Есенина искусство неотделимо от быта. По свидетельству Мариенгофа, он «не умел писать и не писал без жизненной подкладки»[68] и потому критиковал их с Шершеневичем за проповедь искусства ради искусства, вне быта. В своей программной статье «Быт и искусство» (1920) Есенин ссылается на описание скифов Геродотом и проводит аналогию с музыкой,[69] а затем обращается к проблематике слова: «…нет слова беспредметного и бестелесного, и оно так же неотъемлемо от бытия, как и все многорукое и многоглазое хозяйство искусства. <…> Оно попутчик быта».[70] Для него имажинистский быт неотделим от имажинистской поэзии. Классификация образов нуждается в классификации одежды и типов поведения. Что касается имажинистского дендизма в быту, главными фигурами здесь оказываются, безусловно, Есенин и Мариенгоф. Этот быт наиболее ярко и детально описывает Мариенгоф в первой части своей автобиографической «Бессмертной трилогии», озаглавленной «Роман без вранья», и возвращается к этой теме во второй части «Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги»: «Когда-то, как я упоминал, мы жили с Есениным вместе и писали за одним столом. Паровое отопление тогда не работало. Мы спали под одним одеялом, чтобы согреться. Года четыре кряду нас никогда не видели порознь. У нас были одни деньги: его — мои, мои — его. Проще говоря, и те и другие — наши. Стихи мы выпускали под одной обложкой и посвящали их друг другу».[71] Взгляд на совместную жизнь пары Мариенгоф—Есенин в «Романе без вранья», естественно, «мариенгофоцентричен», хотя подобная субъективность предписывается уже самим жанром автобиографического повествования.[72] Стоит, однако, отметить, что, по словам Городецкого, Мариенгоф действительно был учителем Есенина по части дендизма: «Когда я, не понимая его дружбы с Мариенгофом, спросил его о причине ее, он ответил: „Как ты не понимаешь, что мне нужна тень“. Но на самом деле он был тенью денди Мариенгофа, он копировал его и очень легко усвоил еще до европейской поездки всю несложную премудрость внешнего дендизма».[73]
Эта «двойная тень» представляется нам чрезвычайно важной для понимания мотивов близкой дружбы столь разных людей и художников, которая сыграла существенную роль в превращении Есенина в знаменитого хулигана и в становлении Мариенгофа в качестве имажинистского поэта-паяца и скандального мемуариста. Имажинистский дендизм означал для Есенина радикальный отход от образа крестьянского поэта, т. е. разрыв с прошлым.[74] Эту отмену он описывает в своей знаменитой «Исповеди хулигана» (1920), где лирический герой ностальгически прощается с деревней, со своими родителями, которые не понимают его стихов и нынешнего образа жизни: «Бедные, бедные крестьяне! / Вы, наверно, стали некрасивыми, / Так же боитесь Бога и болотных недр. / О, если б вы понимали, / Что сын ваш в России / Самый лучший поэт! <…> А теперь он ходит в цилиндре / И лакированных башмаках».[75] Уход Есенина в имажинизм одновременно означает начало близких отношений с Мариенгофом и прекращение дружбы со своим учителем в литературе Николаем Клюевым, что не могло не раздражать последнего. Стихи Клюева из сборника «Четвертый Рим» (1922) свидетельствуют о том, как главными символами их расхождения становятся цилиндр и лакированные башмаки. С этого начинается клюевский сборник: «Не хочу быть знаменитым поэтом / В цилиндре и в лаковых башмаках. / Предстану миру в песню одетым: / С медвежьим солнцем в зрачках».[76]
Городецкий отметил эту реакцию обиженного Клюева, продолжив цитировать его текст: «Не хочу укрывать цилиндром лесного черта рога!»; «Не хочу цилиндром и башмаками затыкать пробоину в барке души!»; «Не хочу быть лакированным поэтом с обезьяньей славой на лбу!»[77] Есенинский цилиндр, по мнению Городецкого, «потому и был страшнее жупела для Клюева, что этот цилиндр был символом ухода Есенина из деревенщины в мировую славу». На самом деле клюевский образ деревенского мужика, как известно, тоже игра.[78] В процитированных выше стихах воссоздается образ пары Есенина—Мариенгофа, символом которой стали знаменитые цилиндры, чья история рассказана в мемуарах последнего. В письме Мариенгофу из Остенде Есенин сообщал: «В Берлине я наделал, конечно, много скандала и переполоха. Мой цилиндр и сшитое берлинским портным манто привели всех в бешенство. Все думают, что я приехал на деньги большевиков, как чекист или как агитатор. Мне все это весело и забавно».[79] Есенина принимают за чекиста, и это принципиально важно с точки зрения специфически имажинистской версии дендизма. Для Мариенгофа же чужой — усвоенный у футуристов, замаскированный и затем перекодированный на имажинистский лад — «уайльдовский» дендизм с цилиндром на голове ассоциируется не с переходом от одного социокультурного образа к другому, а с процессом его становления как поэта. Актер Камерного театра Борис Глубоковский так описывает Мариенгофа конца 1910-х годов в своей статье «Маски имажинизма»:
Четкий рисунок лица. Боттичеллиевский. Узкие руки. Подаст и отдернет. Острый подбородок. Стальные глаза, в которых купаются блики электрических ламп. Не говорит, а выговаривает. Мыслит броско.

Сборник научных работ посвящен проблеме рассказывания, демонстрации и переживания исторического процесса. Авторы книги — известные филологи, историки общества и искусства из России, ближнего и дальнего зарубежья — подходят к этой теме с самых разных сторон и пользуются при ее анализе различными методами. Границы художественного и документального, литературные приемы при описании исторических событий, принципы нарратологии, (авто)биография как нарратив, идеи Ю. М. Лотмана в контексте истории философского и гуманитарного знания — это далеко не все проблемы, которые рассматриваются в статьях.
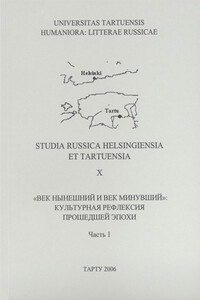
Очередная часть исследования финского литературоведа, посвященная творчеству Анатолия Борисовича Мариенгофа (1897–1962) и принципам имажинистского текста в контексте соотнесения с Оскаром Уальдом.

Что отличает обычную историю от бестселлера? Автор этой книги и курсов для писателей Марта Олдерсон нашла инструменты для настройки художественных произведений. Именно им посвящена эта книга. Используя их, вы сможете создать запоминающуюся историю.

Герой эссе шведского писателя Улофа Лагеркранца «От Ада до Рая» – выдающийся итальянский поэт Данте Алигьери (1265–1321). Любовь к Данте – человеку и поэту – основная нить вдохновенного повествования о нем. Книга адресована широкому кругу читателей.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Сюжет новой книги известного критика и литературоведа Станислава Рассадина трактует «связь» государства и советских/русских писателей (его любимцев и пасынков) как неразрешимую интригующую коллизию.Автору удается показать небывалое напряжение советской истории, сказавшееся как на творчестве писателей, так и на их судьбах.В книге анализируются многие произведения, приводятся биографические подробности. Издание снабжено библиографическими ссылками и подробным указателем имен.Рекомендуется не только интересующимся историей отечественной литературы, но и изучающим ее.

Оригинальное творчество Стендаля привлекло внимание в России задолго до того, как появился его первый знаменитый роман – «Красное и черное» (1830). Русские журналы пушкинской эпохи внимательно следили за новинками зарубежной литературы и периодической печати и поразительно быстро подхватывали все интересное и актуальное. Уже в 1822 году журнал «Сын Отечества» анонимно опубликовал статью Стендаля «Россини» – первый набросок его книги «Жизнь Россини» (1823). Чем был вызван интерес к этой статье в России?Второе издание.

В 1838 году в третьем номере основанного Пушкиным журнала «Современник» появилась небольшая поэма под названием «Казначейша». Автором ее был молодой поэт, чье имя стало широко известно по его стихам на смерть Пушкина и по последующей его драматической судьбе — аресту, следствию, ссылке на Кавказ. Этим поэтом был Михаил Юрьевич Лермонтов.