Имажинист Мариенгоф - [54]
Ольга лежит на диване, уткнувшись носом в шелковую подушку. <…>
Хотите, я немножко почитаю вам вслух? Молчание.
У меня с собой «Сатирикон» Петрония. <…>
Ольга вытаскивает из подушки нос. С него слезла пудра. Крылья ноздрей порозовели и слегка припухли.
Вообще, как вы смеете предлагать мне слушать Петрония! У него мальчишки «разыгрывают свои зады в кости».
Ольга!..
Что «Ольга»?
Я только хочу сказать, что римляне называли Петрония «судьей изящного искусства».
Вот как!
Elegantiae…
Так-так-так!
…arbiter. <…>
<…> Вы хотели, по всей вероятности, прочесть мне то место из «Сатирикона», где Петроний рекомендует «не стесняться, если кто-либо имеет надобность… потому, что никто из нас не родился запечатанным… что нет большей муки, чем удерживаться… что этого одного не может запретить сам Юпитер» <…>
— Имейте в виду, что вы ошиблись — у меня запор!
(С. 16–17).
Само «священнодействие», описанное нарочито детально, требует признания Владимира в любви к Ольге:
Скажите пожалуйста, вы в меня влюблены? <… >
Нежно влюблены? возвышенно влюблены? В таком случае, откройте шкаф и достаньте оттуда клизму. Вы слышите, о чем я вас прошу? <… >
Я обжигаю пальцы о холодное стекло кружки.
Эта самая… с желтой кишкой и черным наконечником… налейте воду из графина… возьмите с туалетного столика вазелин… намажьте наконечник… повесьте на гвоздь… благодарю вас… а теперь можете уходить домой… до свиданья (С. 17–18).
Любовь сопоставляется с революцией и с вышеупомянутой мерой, и клизма выступает в качестве эротического, фаллического символа. Очевидны и намеки на анальный секс. Дендистский и, может быть, гомосексуалистский контекст в описании этой процедуры существенен, так как при обсуждении запора героини появляется неслучайно фигура Петрония, он же «arbiter elegantiarum», утонченный эстет и денди, но и «богема» своего времени, неоднократно упоминаемый в связи с дендизмом.[577] В мыслях повествователя образ клизмы строится, как монтаж чужих текстов, — это образ дендистской любви, не отражение телесности, как для Ольги. Для нее верности или ревности не существует — революция в любви то же, как сексуальная революция. Это полная имморалистская эмансипация, взаимная индивидуалистская свобода, в чем и состоит ее цинизм. Владимир, со своей стороны, относится к любви по-другому, «по-имажинистски». «Клизма», т. е. изображающее, становится самоцелью. Поэтому повествователь включает этот образ во внутреннюю систему произведения как «образ любви»[578] и, разумеется, пользуется повторяющими изображениями, когда говорит о ней:
Мне больше не нужно спрашивать себя: «Люблю ли я Ольгу?»
Если мужчина сегодня для своей возлюбленной мажет вазелином черный клистирный наконечник, а на завтра замирает с охапкой роз у электрического звонка ее двери, — ему незачем задавать себе глупых вопросов.
Любовь, которую не удушила резиновая кишка от клизмы, — бессмертна (С. 21).
В конце концов данный образ остается в мыслях читателя так глубоко, что повествователь может значительно позднее напоминать о нем, рассказывая о «потерянной любви», одним упоминанием ассоциативной детали. Это упоминание появляется немедленно после того, как Ольга рассказала Владимиру, что она изменила ему:
Дома похожи на аптечные шкафы (С. 55).
Можно предположить, что именно Владимиру с его цинизмом свойственно подобное антитезисное мышление, необходимость выражать нечто приятное через отвратительное, высокое через низкое и чистое через нечистое. Образ любви становится все более отвратительным, когда любовь сопоставляется с гигиеническими проблемами приятеля Владимира:
Как-то я зашел к приятелю, когда тот еще валялся в постели. Из-под одеяла торчала его волосатая голая нога. Между пальцами, короткими и толстыми, как окурки сигар, лежала грязь потными черными комочками.
Я выбежал в коридор. Меня стошнило.
А несколько дней спустя, одеваясь, я увидел в своих мохнатых, расплюснутых, когтистых пальцах точно такие же потные комочки грязи. Я нежно выковырял ее и поднес к носу.
С подобной же нежностью я выковыряю сейчас свою любовь и с блаженством «подношу к носу» (С. 36).
Чистая любовь, которую в «Магдалине» Мариенгоф сопоставил с любовью садистической, описывается в «Циниках» через грязь. Подобные самоцельные шокирующие эффекты как будто объясняют рецепцию романа конца 1920-х годов — то, что он был почти однозначно воспринят как «отвратительный», «неэстетичный» и т. д. С этого начинал свою рецензию критик Айхенвальд: «Мерзостями уснащено все произведение. Всяческие непристойности и неприличия, отвратительное и гнусное подносит грязелюбивый автор на блюде своего изложения в преднамеренном знаке того, что цинизм — единственно правильное миросозерцание и что таким путем выясняется истинная суть, неприкрашенная правда жизни. В мудрых глазах г. Мариенгофа жизнь, это клоака <…>. Так это у г. Мариенгофа — нарочно, с заранее обдуманным намерением. Но он все-таки и литератор, притом — имажинист. Он любит образы и щедро сыплет ими, скупясь зато на простоту; он расточителен в своей изысканности и вычурности. Иногда интересны, неожиданны и в самом деле картинны его словесные причуды, но в общем они утомляют — уже своим количеством, если не качеством. Во всяком случае, своеобразно это соединение изощренной литературной образности с невероятной грубостью сцен, монологов и диалогов».

Сборник научных работ посвящен проблеме рассказывания, демонстрации и переживания исторического процесса. Авторы книги — известные филологи, историки общества и искусства из России, ближнего и дальнего зарубежья — подходят к этой теме с самых разных сторон и пользуются при ее анализе различными методами. Границы художественного и документального, литературные приемы при описании исторических событий, принципы нарратологии, (авто)биография как нарратив, идеи Ю. М. Лотмана в контексте истории философского и гуманитарного знания — это далеко не все проблемы, которые рассматриваются в статьях.
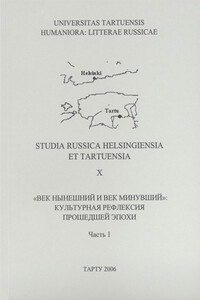
Очередная часть исследования финского литературоведа, посвященная творчеству Анатолия Борисовича Мариенгофа (1897–1962) и принципам имажинистского текста в контексте соотнесения с Оскаром Уальдом.

Предисловие известного историка драмы Юрия Фридштейна к «Коллекции» — сборнику лучших пьес английского драматурга Гарольда Пинтера, лауреата Нобелевской премии 2005 года.

Анализируются сведения о месте и времени работы братьев Стругацких над своими произведениями, делается попытка выявить определяющий географический фактор в творческом тандеме.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Предмет этой книги — искусство Бродского как творца стихотворений, т. е. самодостаточных текстов, на каждом их которых лежит печать авторского индивидуальности. Из шестнадцати представленных в книге работ западных славистов четырнадцать посвящены отдельным стихотворениям. Наряду с подробным историко-культурными и интертекстуальными комментариями читатель найдет здесь глубокий анализ поэтики Бродского. Исследуются не только характерные для поэта приемы стихосложения, но и такие неожиданные аспекты творчества, как, к примеру, использование приемов музыкальной композиции.

Эта книга удивительна тем, что принадлежит к числу самых последних более или менее полных исследований литературного творчества Толкиена — большого писателя и художника. Созданный им мир - своего рода Зазеркалье, вернее, оборотная сторона Зеркала, в котором отражается наш, настоящий, мир во всех его многогранных проявлениях. Главный же, непреложный закон мира Толкиена, как и нашего, или, если угодно, сила, им движущая, — извечное противостояние Добра и Зла. И то и другое, нетрудно догадаться, воплощают в себе исконные обитатели этого мира, герои фантастические и вместе с тем совершенно реальные: с одной стороны, доблестные воители — хоббиты, эльфы, гномы, люди и белые маги, а с другой, великие злодеи — колдуны со своими приспешниками.Чудесный свой мир Толкиен создавал всю жизнь.