Иллюзии. 1968—1978 (Роман, повесть) - [112]
— Знаешь, Алик, иногда мне кажется, что я прожил не одну, а несколько жизней.
Насчет н е с к о л ь к и х жизней он явно преувеличивал. Всего две. Одну до победы, другую после. И обе лежали теперь передо мной на столе. Жизнь в фотографиях.
Не только его. Моя — тоже.
Фотографии разных людей — это и ты сам, отраженный в чьих-то глазах, улыбках, нахмуренных бровях, неестественных позах. Разные люди по-разному смотрят на тебя, нажимающего кнопку затвора. И потом в невидимом фокусе, в вынесенной за пределы фотографии точке сопересечений разнообразных взглядов различаешь собственное изображение, точно интерференционную картину, возникшую благодаря множеству световых наложений, или как подвешенный к дирижаблю портрет, вспыхивающий чудесным ночным видением в послевоенном праздничном небе, пронизанном острыми спицами прожекторов.
Придя ко мне за фотографиями, Павлик попросил помочь ему разобрать бумаги отца. Кажется, его мучила совесть.
— Я пытался сам, но есть записи, связанные с работой. Отец, очевидно, собирался что-то сделать и не успел.
— Хорошо, Павлик. Если чем-нибудь смогу помочь. Как Ирочка?
— Ужасно. Она так пережила. Не желает больше видеть меня. Говорит, что больше не любит.
— Возможно, ей только кажется.
— Нет, дядя Алик. Пакс не обманывает. Я вижу по глазам. Ведь я не настаивал. Мы думали, так лучше.
— Наверно, вы оба правы.
— Тогда почему?
— Успокойся, все уладится.
Он чуть не плакал. Господи, — подумал я, — неужели в наше время еще встречаются такие нежные, чувствительные дети?
— Извините. Мне не с кем поделиться. Я рассказал только вам.
— Алик, Павлик, ужинать! — донесся голос Светланы.
Гремели тарелки. Пахло жареным.
— Мне пора. Я не хочу есть.
— Пошли.
Мы вышли на кухню.
— А вот и мы.
— Давайте, давайте.
— Садись.
— Сюда, Павлик. Здесь Алик сидит.
— Стареем, — подмигнул я Базанову-младшему. — Свое место, своя чашка. Мы с Павликом, пожалуй, выпьем. За его поступление в университет.
Светлана открыла дверцу холодильника. Павлик покосился на ее живот, вскочил, почти с испугом, покраснел, засуетился, уступая место.
— Вот еще табуретка, — сказал я. — Ты что-то стал по-профессорски рассеян.
— Будущий профессор истории, — сказала Светлана.
Павлик вежливо оглядел нас. Я поставил ему большую рюмку, открыл бутылку и стал наливать.
— Хватит, — сказал он, едва водка плеснулась о дно.
— Ты что, совсем не пьешь?
Уже в дверях, прощаясь, я обещал позвонить, как только немного освобожусь, чтобы помочь разобрать бумаги отца. Потом замотался и позвонил только через три недели.
Жизнь удивительным образом продолжала сводить нас с Базановым. Я становился теперь не только интерпретатором его судьбы, духовником сына, но и хранителем личных бумаг, чем-то вроде биографа и душеприказчика. Ко мне приставал Ваня Брутян с просьбой помочь организовать Базановские чтения, терзали напористые корреспонденты газет, журналов и тихие авторы диссертаций.
Заметки, в которых, по словам Павлика, «ничего нельзя было понять», перемежались записями дневникового характера, сделанными Виктором в санатории. Неожиданным оказалось не столько это свободное чередование житейского с узкоспециальным, сколько сам факт ведения дневника. Базанов, записывающий свои санаторские впечатления, был так не похож на того Базанова, которого я знал, что если бы не почерк и не следы «термодинамической химии», удостоверявшие его авторство более надежно, чем любая подпись, мои сомнения обратились бы в непоколебимую уверенность: нет, это не Виктор — кто-то другой.
Павлик передал мне четыре ученические тетради в косую линейку, которые могли принадлежать кому угодно: аккуратисту, отличнику, тихому шизофренику — но уж никак не размашистому, рассеянному, безалаберному профессору. Я увидел чистые обложки, перевернул несколько глянцевых страниц с полями, отделенными тонкой розовой линией, заполненных ровными, мелкими строчками словно бы тщательно переписанного текста, и что-то больно стеснило грудь. Представил себе, как Базанов заходит в местный магазин, тянет руку к первым попавшимся на глаза тетрадям для второго класса. Ему просто в голову не пришло спросить другие. И потом, будто запряженная в повозку старая лошадь, покорно плетется по колее, соблюдая наклон букв, предписанный школьными правилами правописания.
В манере письма чувствовался какой-то надлом, подчиненность внешним обстоятельствам, тогда как содержание записок, напротив, оставляло впечатление внутренней уравновешенности. Но и здесь настораживало отсутствие знакомых имен, как бы полная отрезанность от предыдущей жизни.
Из различия интенсивности цвета чернил и почерка следовало, что записи велись в течение нескольких дней, возможно, недель, однако никаких дат и перерывов в тексте я не обнаружил. Почему у Виктора возникло желание описывать свое пребывание в сердечно-сосудистом санатории?
Мы договорились с Павлом, что я возьму тетради с собой, просмотрю их и выпишу все н е п о н я т н о е. Потом покажу это сотрудникам лаборатории, которой заведовал его отец.
XXII
Из записей В. А. Базанова.
«…Как они могли рассчитать среднестатистические характеристики ансамблей коротких несамопересекающихся цепей… машинные эксперименты проводили методом Монте-Карло с помощью техники «скользящей змеи», предусматривающей случайные смещения для звеньев, находящихся вблизи «головы» цепи… При самопересечениях «голова» и «хвост» меняются местами. Это повторяется со мной в последнее время все чаще. И здесь, в санатории, тоже. Мучительно пытаешься дотянуться до какого-то предмета и не можешь. Пальцы не слушаются, скользят… В блоке полимерные цепи все-таки можно моделировать блужданиями второго порядка…
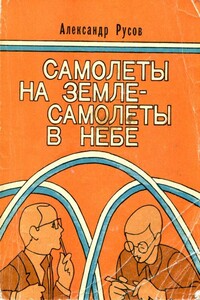
Повести и рассказы, вошедшие в сборник, посвящены судьбам современников, их поискам нравственных решений. В повести «Судья», главным героем которой является молодой ученый, острая изобразительность сочетается с точностью и тонкостью психологического анализа. Лирическая повесть «В поисках Эржебет Венцел» рисует образы современного Будапешта. Новаторская по характеру повесть, давшая название сборнику, рассказывает о людях современной науки и техники. Интерес автора сосредоточен на внутреннем, духовном мире молодых героев, их размышлениях о времени, о себе, о своем поколении.

В 1977 году вышли первые книги Александра Русова: сборник повестей и рассказов «Самолеты на земле — самолеты в небе», а также роман «Три яблока», являющийся первой частью дилогии о жизни и революционной деятельности семьи Кнунянцев. Затем были опубликованы еще две книги прозы: «Города-спутники» и «Фата-моргана».Книга «Суд над судом» вышла в серии «Пламенные революционеры» в 1980 году, получила положительные отзывы читателей и критики, была переведена на армянский язык. Выходит вторым изданием. Она посвящена Богдану Кнунянцу (1878–1911), революционеру, ученому, публицисту.
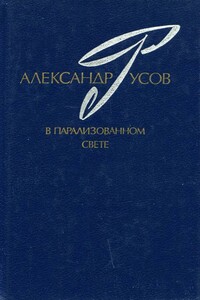
В книгу вошли лирико-драматическая повесть «Записки больного» и два трагикомических романа из цикла «Куда не взлететь жаворонку». Все три новых повествования продолжают тему первой, ранее опубликованной части цикла «Иллюзии» и, являясь самостоятельными, дают в то же время начало следующей книге цикла. Публикуемые произведения сосредоточены на проблемах и судьбах интеллигенции, истоках причин нынешнего ее положения в обществе, на роли интеллектуального начала в современном мире.

В повестях калининского прозаика Юрия Козлова с художественной достоверностью прослеживается судьба героев с их детства до времени суровых испытаний в годы Великой Отечественной войны, когда они, еще не переступив порога юности, добиваются призыва в армию и достойно заменяют погибших на полях сражений отцов и старших братьев. Завершает книгу повесть «Из эвенкийской тетради», герои которой — все те же недавние молодые защитники Родины — приезжают с геологической экспедицией осваивать природные богатства сибирской тайги.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
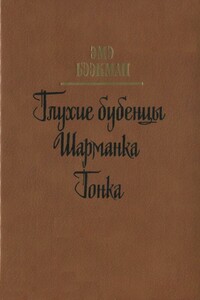
В предлагаемую читателю книгу популярной эстонской писательницы Эмэ Бээкман включены три романа: «Глухие бубенцы», события которого происходят накануне освобождения Эстонии от гитлеровской оккупации, а также две антиутопии — роман «Шарманка» о нравственной требовательности в эпоху НТР и роман «Гонка», повествующий о возможных трагических последствиях бесконтрольного научно-технического прогресса в условиях буржуазной цивилизации.

Прозу Любови Заворотчевой отличает лиризм в изображении характеров сибиряков и особенно сибирячек, людей удивительной душевной красоты, нравственно цельных, щедрых на добро, и публицистическая острота постановки наболевших проблем Тюменщины, где сегодня патриархальный уклад жизни многонационального коренного населения переворочен бурным и порой беспощадным — к природе и вековечным традициям — вторжением нефтедобытчиков. Главная удача писательницы — выхваченные из глубинки женские образы и судьбы.

На примере работы одного промышленного предприятия автор исследует такие негативные явления, как рвачество, приписки, стяжательство. В романе выставляются напоказ, высмеиваются и развенчиваются жизненные принципы и циничная философия разного рода деляг, должностных лиц, которые возвели злоупотребления в отлаженную систему личного обогащения за счет государства. В подходе к некоторым из вопросов, затронутых в романе, позиция автора представляется редакции спорной.
