«И снова Бард…» К 400-летию со дня смерти Шекспира - [34]
Леди Анна. На всей земле нет лучшего, чем он.
Глостер. Есть. Вас он любит больше, чем умерший.
Леди Анна. Кто он?
Глостер. Плантагенет.
Леди Анна. Его так звали.
Глостер. Да, имя то же, но покрепче нрав.
Леди Анна. Где он?
Глостер. Он здесь.
> Леди Анна плюет на Глостера.
Ты на меня плюешь?
Леди Анна. Тебя бы ядом оплевала я.
Глостер. Не место яду на губах столь нежных.
Леди Анна. Но место яду на гнуснейшей жабе. Прочь с глаз моих! Ты для меня — злой яд.
Глостер. О милая, твои глаза мне — яд[147].
Здесь Ричард переводит их диалог в термины петрарковского модуса. Но Анна теряет контроль над ситуацией из-за физического действия — плевка в Ричарда, что делает ее уязвимой и восприимчивой к его маневру. Для леди петрарковского типа плевок — поступок необычный, равно как и любой другой поступок, вследствие которого она лишается молчаливой отчужденности, составляющей ее силу. Но театр ломает петрарковскую манеру сбалансированного, неизменного антитезиса (который может возобновляться бесконечно), заменив его динамикой действия и временной безотлагательностью. Таким образом, приспособив петраркизм к своим задачам, Ричард умудряется извлечь выгоду из создавшегося положения: ведь влюбленный традиционно идентифицируется со страданием и статусом страдальца, тогда как Анне (которая и есть жертва) выпадает роль бездушной, жестокосердой дамы, так сказать, «убийцы». То есть истинный убийца ухитряется превратиться в «убиенного», используя жанровую условность: «ранящие» глаза, «убийственный» взгляд. Цель всей этой подмены — по-макиавеллиевски смелая перелицовка давно известного литературного жанра, в определенной степени напоминающая переход от традиционного злодея (в духе трагедий Сенеки) к тирану-«макьявелю». Исход обольщения леди Анны зависит от следующего поворота колеса Фортуны (не стоит забывать, что все происходящее изображает повороты ее колеса), когда Ричард совершает свой самый безрассудный поступок — подставляет грудь под меч:
(Открывает грудь.)
>Леди Анна пытается ударить его мечом.
Леди Анна роняет меч[148].
Тем самым, «смерть» становится реальной перспективой — Ричард дает Анне настоящий меч, которым его можно убить, хотя говорить он продолжает о метафорической петрарковской смерти. В результате возникает мощный театральный эффект — действие, заряженное эротизмом, усиленным тем, что Анна и впрямь может всадить меч ему в грудь. Это явствует из последних слов Ричарда, где он соединяет признание вины (до этой минуты признаваемой им лишь косвенно, путем иносказаний) и желания, но Анна не отшатывается от домогающегося, и не по мягкости характера, а потому, что ей нравится быть вожделенной. Что и делает ее беспомощной и податливой: от «убийства» Анной Ричарда всего один шаг до — «совершенного ею» ретроспективно, с ее согласия — убийства Генриха (ее свекра) и Эдуарда (ее мужа).
Как часто бывает у Шекспира, широко развернутую сцену одной драмы он сводит до стенографической записи в другой, где обыгрываемая ситуация и взаимоотношения героев очерчиваются лишь контурно. Так, бесстыдное обольщение Анны над трупом ее свекра приводит на ум ситуацию в «Гамлете», но можно только догадываться, как искушал Гертруду убийца ее мужа, ибо это совершается за сценой. Горячечное воображение Гамлета живо воспроизводит эти домогательства, особенно в ту минуту, когда он упрекает мать, казалось бы, давно достигшую возраста матроны, в неподобающей отзывчивости к плотским утехам. Точно так же его уничижительное замечание о радости инцестуозной Клавдиевой «засаленной постели» наводит на мысль о мощной природе сексуальных отношений между его дядей и матерью. Многие критики трагедии считают, что реакция сына на новый брак матери преувеличена, чему стараются найти психологическое объяснение за пределами непосредственного сценического действия. Но не исключено, что ими движет желание перевернуть отношения, перенеся сексуальный акцент на сына. На самом деле, Гамлет испытает потрясение, соизмеримое тому, какое испытывают зрители «Ричарда III», когда внезапно становятся свидетелями торжества эротического начала. Клавдий — меньший «макьявель» в трагедии и отнюдь не ее герой, поэтому понятно, что все его поступки автор не разглядывает в лупу. Мы не видим страстной любви Клавдия к Гертруде, разве что в самом конце, когда он просит ее не пить из отравленного кубка. Но другая, более ранняя пьеса Шекспира, поможет нам заполнить лакуны, если наш разум, как разум Гамлета, того требует. Соблазнение Анны Ричардом дает нам возможность «дописать» «недостающие», подразумеваемые сцены ухаживания Клавдия за Гертрудой. А что их связывает страсть, ясно видно из совета, который Гамлет дает матери:
Но если Клавдий — меньший «макьявель», то старшим или героем макиавеллиевского типа (если прибегнуть к более точной формулировке) следует считать самого Гамлета. Одна и та же мысль — на протяжении почти всей трагедии — удерживает Гамлета от действий и гонит Ричарда вперед: а именно сознание того, что ничто происходящее в мире не имеет нравственного смысла. Гамлет борется с этой мыслью с разных сторон и по-своему, однако разлад, которым проникнута из-за этого вся пьеса (как и внутренняя жизнь главного героя), легко проиллюстрировать смертью Розенкранца и Гильденстерна. Гамлет известен своими метафизическими терзаниями (душевные муки), но в блестящем расстройстве заговора, устроенного при участии его бывших однокашников, он проявляет хитроумие, достойное похвалы самого Чезаре Борджиа. Проснувшись ночью на корабле по дороге в Англию, он находит письмо Клавдия, в котором тот просит английского короля умертвить принца Гамлета, и подменяет это послание другим, в котором приказывает убить подателей письма. Вот как он рассказывает об этом Горацио:

«— Ну, что же теперь, а?»Аннотировать «Заводной апельсин» — занятие безнадежное. Произведение, изданное первый раз в 1962 году (на английском языке, разумеется), подтверждает старую истину — «ничто не ново под луной». Посмотрите вокруг — книжке 42 года, а «воз и ныне там». В общем, кто знает — тот знает, и нечего тут рассказывать:)Для людей, читающих «Апельсин» в первый раз (завидую) поясню — странный язык:), используемый героями романа для общения — результат попытки Берждеса смоделировать молодежный сленг абстрактного будущего.

«1984» Джорджа Оруэлла — одна из величайших антиутопий в истории мировой литературы. Именно она вдохновила Энтони Бёрджесса на создание яркой, полемичной и смелой книги «1985». В ее первой — публицистической — части Бёрджесс анализирует роман Оруэлла, прибегая, для большей полноты и многогранности анализа, к самым разным литературным приемам — от «воображаемого интервью» до язвительной пародии. Во второй части, написанной в 1978 году, писатель предлагает собственное видение недалекого будущего. Он описывает государство, где пожарные ведут забастовки, пока город охвачен огнем, где уличные банды в совершенстве знают латынь, но грабят и убивают невинных, где люди становятся заложниками технологий, превращая свою жизнь в пытку…

«Заводной апельсин» — литературный парадокс XX столетия. Продолжая футуристические традиции в литературе, экспериментируя с языком, на котором говорит рубежное поколение малтшиков и дьевотшек «надсатых», Энтони Берджесс создает роман, признанный классикой современной литературы. Умный, жестокий, харизматичный антигерой Алекс, лидер уличной банды, проповедуя насилие как высокое искусство жизни, как род наслаждения, попадает в железные тиски новейшей государственной программы по перевоспитанию преступников и сам становится жертвой насилия.
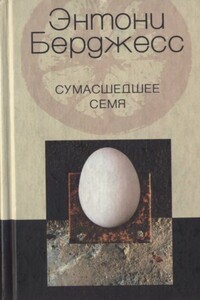
Энтони Берджесс — известный английский писатель, автор бестселлера «Заводной апельсин». В романе-фантасмагории «Сумасшедшее семя» он ставит интеллектуальный эксперимент, исследует человеческую природу и возможности развития цивилизации в эпоху чудовищной перенаселенности мира, отказавшегося от войн и от Божественного завета плодиться и размножаться.

«Семя желания» (1962) – антиутопия, в которой Энтони Бёрджесс описывает недалекое будущее, где мир страдает от глобального перенаселения. Здесь поощряется одиночество и отказ от детей. Здесь каннибализм и войны без цели считаются нормой. Автор слишком реалистично описывает хаос, в основе которого – человеческие пороки. И это заставляет читателя задуматься: «Возможно ли сделать идеальным мир, где живут неидеальные люди?..».
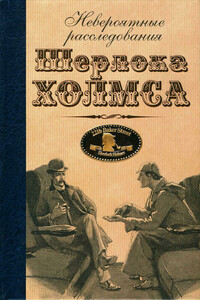
Шерлок Холмс, первый в истории — и самый знаменитый — частный детектив, предстал перед читателями более ста двадцати лет назад. Но далеко не все приключения великого сыщика успел описать его гениальный «отец» сэр Артур Конан Дойл.В этой антологии собраны лучшие произведения холмсианы, созданные за последние тридцать лет. И каждое из них — это встреча с невероятным, то есть с тем, во что Холмс всегда категорически отказывался верить. Призраки, проклятия, динозавры, пришельцы и даже злые боги — что ни расследование, то дерзкий вызов его знаменитому профессиональному рационализму.

Работа Вальтера Грундмана по-новому освещает личность Иисуса в связи с той религиозно-исторической обстановкой, в которой он действовал. Герхарт Эллерт в своей увлекательной книге, посвященной Пророку Аллаха Мухаммеду, позволяет читателю пережить судьбу этой великой личности, кардинально изменившей своим учением, исламом, Ближний и Средний Восток. Предназначена для широкого круга читателей.

Фамилия Чемберлен известна у нас почти всем благодаря популярному в 1920-е годы флешмобу «Наш ответ Чемберлену!», ставшему поговоркой (кому и за что требовался ответ, читатель узнает по ходу повествования). В книге речь идет о младшем из знаменитой династии Чемберленов — Невилле (1869–1940), которому удалось взойти на вершину власти Британской империи — стать премьер-министром. Именно этот Чемберлен, получивший прозвище «Джентльмен с зонтиком», трижды летал к Гитлеру в сентябре 1938 года и по сути убедил его подписать Мюнхенское соглашение, полагая при этом, что гарантирует «мир для нашего поколения».

Константин Петрович Победоносцев — один из самых влиятельных чиновников в российской истории. Наставник двух царей и автор многих высочайших манифестов четверть века определял церковную политику и преследовал инаковерие, авторитетно высказывался о методах воспитания и способах ведения войны, давал рекомендации по поддержанию курса рубля и композиции художественных произведений. Занимая высокие посты, он ненавидел бюрократическую систему. Победоносцев имел мрачную репутацию душителя свободы, при этом к нему шел поток обращений не только единомышленников, но и оппонентов, убежденных в его бескорыстности и беспристрастии.

Заговоры против императоров, тиранов, правителей государств — это одна из самых драматических и кровавых страниц мировой истории. Итальянский писатель Антонио Грациози сделал уникальную попытку собрать воедино самые известные и поражающие своей жестокостью и вероломностью заговоры. Кто прав, а кто виноват в этих смертоносных поединках, на чьей стороне суд истории: жертвы или убийцы? Вот вопросы, на которые пытается дать ответ автор. Книга, словно богатое ожерелье, щедро усыпана массой исторических фактов, наблюдений, событий. Нет сомнений, что она доставит огромное удовольствие всем любителям истории, невероятных приключений и просто острых ощущений.

Мемуары известного ученого, преподавателя Ленинградского университета, профессора, доктора химических наук Татьяны Алексеевны Фаворской (1890–1986) — живая летопись замечательной русской семьи, в которой отразились разные эпохи российской истории с конца XIX до середины XX века. Судьба семейства Фаворских неразрывно связана с историей Санкт-Петербургского университета. Центральной фигурой повествования является отец Т. А. Фаворской — знаменитый химик, академик, профессор Петербургского (Петроградского, Ленинградского) университета Алексей Евграфович Фаворский (1860–1945), вошедший в пантеон выдающихся русских ученых-химиков.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.