Хунну в Китае - [5]
В I веке до н. э. благодаря борьбе партий, казням, эмиграции и т. п. падало сознание хуннского единства. Единство было нужно воинам для «господства над народами», а спокойные кочевники могли пасти свой скот порознь. Конечно, для массы сильная власть тоже была полезна, так как обеспечивала безопасность, однако мы не вправе требовать от неграмотных пастухов и их жен сознания государственных задач и перспектив. Рядовые хунны помогали своему правительству в меру своих способностей — не их вина, что способностей у них было мало.
Соперник Хунну — Китай — находился в совершенно иных условиях. Во-первых, сил у него было гораздо больше, во-вторых, китайцы не тратили пассионарный запас на пополнение рядового состава армии. Туда шли «молодые негодяи», т. е. преступники, от которых страна должна была так или иначе избавиться. Потеря одной армии для Китая была потерей материальной, и за 30 лет регулярного поступления налогов ущерб был возмещен.
А что было бы, если бы хуннское общество продолжало развиваться, если бы шелк китайских дипломатов и стрелы сяньбийских всадников не сокрушили империю Хунну и не раскололи ее на части?
Такой вопрос обычно не ставится в исторических сочинениях, и сама постановка его может быть сочтена ненаучной, но этнолог обязан случайности военного успеха отличать от закономерности развития (хотя часто случайности ломают закономерность). Этнос в своем развитии проходит определенные фазы, но он взаимодействует при этом с соседними этносами, и часто влияние соседей оказывается роковым: тогда закономерность развития нарушается, и возникают формы уродливые и неполноценные, но всегда бросающиеся в глаза историку. Подчас это настолько искажает закономерность, что вводит в заблуждение исследователя. Попробуем внести ясность, пользуясь этнологией как критерием.
Постоянное влияние сильного и агрессивного Китая все время исподволь деформировало хуннский этнос, но до временного подчинения Китаю в I веке до н. э. это влияние компенсировалось и затухало, не давая результатов. Однако шестидесятилетнее соседство и взаимодействие с Китаем оставили глубокий след на быте и психологии хуннов. При этом нельзя забывать, что китайцы и кочевники — люди предельно разных этнических доминант, и поэтому китаизация кочевников всегда была связана с жестокой психической ломкой.
Восстановление державы Хунну в I веке н. э. показало, что хуннская культура выдержала испытание, но уже в 48 г. сказались последствия привычки подчиняться врагу: часть хуннов добровольно поддалась Китаю. Это было началом смещения этнической доминанты, закончилось оно в 93 г. сяньбийской военной победой. После этого самостоятельная история Хунну прекратилась, но этногенез продолжался: хунны делили судьбу тех культур и народов, к которым они волею истории прибились. Эта эпоха требует специального изучения, но раньше мы вправе спросить: а не могла ли хуннская культура развиваться дальше? По нашему мнению, могла.
Единственной опасностью для Хунну была ханьская агрессия. Следовательно, если бы империя Хань развалилась на 20 лет раньше, что могло бы быть, если бы толковые китайцы не прикончили узурпатора Ван Мана вовремя, в Степи оформилась бы хуннская культура и развилась бы хуннская цивилизация или фаза исторического существования[25]. Именно эта фаза является наиболее продуктивной. При становлении оригинальной культуры, когда кипят страсти, создаются определенный стиль жизни, способ взаимоотношений, ритм мироощущения и специфическое понимание идейных ценностей — красоты, истины, справедливости и т. п. В период «существования», когда страсти остывают, начинают выкристаллизовываться формы искусства, философии, законности и даже комфорта. Именно от этой стадии остаются следы для археолога и антиквара. Этой стадии хунны не прошли, она заменилась для них стадией обскурации — постепенного забвения традиций и бессмысленной борьбы за прозябание.
А ведь в Степи могли бы создаться поэмы — патетичнее «Илиады», мифы — фантастичнее «Эдды», рассказы — не хуже «1001 ночи». Если по условиям климата не могла развиваться архитектура, развились бы ювелирное искусство и аппликации. Нет никакого основания думать, что письменность не может распространяться среди кочевников: грамотность была уже в VIII–IX веках широко распространена среди тюркютов, уйгуров и кыргызов; хунны не составили бы исключения. Могла бы развиться философия, народились бы естествознание и история, если бы не кровавый разгром, погубивший гениев в утробах матерей.
У хуннов были все предпосылки для перехода к мирной жизни: китайские эмигранты насадили в Степи земледелие, согдийские — художества и ремесла, турфанцы — торговлю.
Разумеется, для того чтобы посеянные семена дали всходы, нужно было время, а его-то у хуннов не оказалось.
Итак, если быть справедливыми, мы должны оплакать тот час, когда последний хуннский шаньюй упал, израненный, с боевого коня и, подхваченный верными сподвижниками, умчался в никуда. Он сражался за неосуществившуюся цивилизацию с предателями (южными хуннами), захватчиками (китайцами) и жадными дикарями (сяньбийцами). И нет никаких оснований по одичавшим западным хуннам IV века судить об их рыцарственных предках.
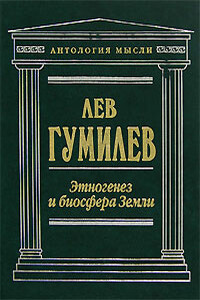
Знаменитый трактат «Этногенез и биосфера Земли» — основополагающий труд выдающегося отечественного историка, географа и философа Льва Николаевича Гумилева, посвященный проблеме возникновения и взаимоотношений этносов на Земле. Исследуя динамику движения народов, в поисках своей исторической идентичности вступающих в конфликты с окружающей средой, Гумилев собрал и обработал огромное количество научных и культурологических данных. В этой переведенной на многие языки уникальной книге, которую автор считал своим главным произведением, сформулированы и подробно развиты основные положения разработанной Л.
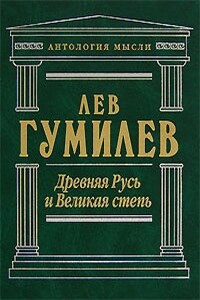
Книга выдающегося русского этнографа Льва Николаевича Гумилева посвящена одной из самых сложных и запутанных проблем отечественной истории — вопросу взаимоотношений Древней Руси и кочевников Великой степи на протяжении всего Средневековья. Увлекательная и эмоциональная, написанная безупречным языком, эта работа стала блестящей попыткой реконструкции подробной и целостной картины истории Евразии в XI–XIV веках.

Мысли и чувства автора, возникшие во время пятилетнего путешествия по Хазарии, как в пространстве, так и во времени, или биография научной идеи. Написана в 1965 г. н. э., или в 1000 г. от падения Хазарского каганата, и посвящена моему дорогому учителю и другу Михаилу Илларионовичу Артамонову.
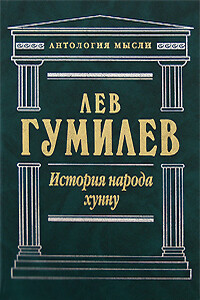
«История народа хунну» Льва Гумилева – одна из самых значительных работ этого величайшего российского ученого.Вы спросите, кто они такие, «народ хунну»? Так называли себя те, кого в европейской исторической традиции принято именовать Гунами, кочевой народ, обогативший генофонд едва ли не каждой европейской и азиатской нации.Величайшего из завоевателей «эпохи переселения народов» – царя гуннов Аттилу – помнят все. Но каковы были другие великие полководцы народа хунну, огнем и мечом покорявшие все новые и новые страны? Каковы были жизнь, культура и искусство гуннов? Какую судьбу уготовила им История? Вот лишь немногие из вопросов, ответы на которые вы получите в этой книге...
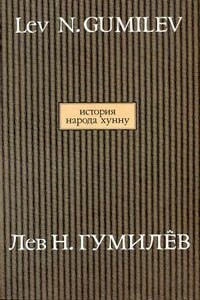
«История народа хунну» Льва Гумилева — одна из самых значительных работ этого величайшего российского ученого.Вы спросите, кто они такие, «народ хунну»? Так называли себя те, кого в европейской исторической традиции принято именовать гуннами, кочевой народ, обогативший генофонд едва ли не каждой европейской и азиатской нации.Величайшего из завоевателей «эпохи переселения народов» — царя гуннов Аттилу — помнят все. Но каковы были другие великие полководцы народа хунну, огнем и мечем покорявшие все новые и новые страны? Каковы были жизнь, культура и искусство гуннов? Какую судьбу уготовила им История? Вот лишь немногие из вопросов, ответы на которые вы получите в этой книге…
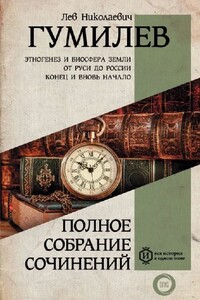
В книгу включены важнейшие работы Л.Н. Гумилева: «От Руси до России», «Конец и вновь начало», «Этногенез и биосфера Земли». В первой книге известный русский историк и географ рассматривает историю России, которая тесно переплетается с историей соседних государств и племен. Сочетание традиционных приемов исторического исследования с глубоким географическим анализом позволило автору создать целостную картину развития Российского государства в контексте мировой истории. «Конец и вновь начало» представляет собой цикл лекций по народоведению, прочитанных автором в 1980-е годы.
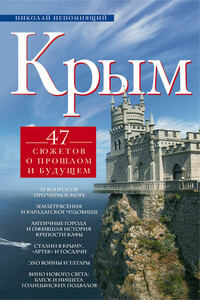
На небольшом клочке суши переплелись в сложном узоре уникальные ландшафты, исторические события, людские судьбы. Каждый найдет здесь кусочек своей родины: альпийский луг, азиатскую пустыню, среднерусское поле, таежный бурелом.Крым был яблоком раздора для десятков стран и империй.Много прошло по дорогам полуострова народов, культур, религий. И все они оставляли здесь частичку своих традиций и обычаев, частичку своей культуры и души.

В настоящее издание уникальных записок известного русского юриста, общественного деятеля, публициста, музыканта, черниговского губернского тюремного инспектора Д. В. Краинского (1871-1935) вошли материалы семи томов его дневников, относящихся к 1919-1934 годам.Это одно из самых правдивых, объективных, подробных описаний большевизма очевидцем его злодеяний, а также нелегкой жизни русских беженцев на чужбине.Все сочинения издаются впервые по рукописям из архива, хранящегося в Бразилии, в семье внучки Д.

Генерал М.К. Дитерихс (1874–1937) – активный участник Русско-японской и Первой мировой войн, а также многих событий Гражданской войны в России. Летом 1922 года на Земском соборе во Владивостоке Дитерихс был избран правителем Приморья и воеводой Земской рати. Дитерихс сыграл важную роль в расследовании преступления, совершенного в Екатеринбурге 17 июля 1918 года, – убийства Царской Семьи. Его книга об этом злодеянии еще при жизни автора стала библиографической редкостью. Дитерихс первым пришел к выводу, что цареубийство произошло из-за глубокого раскола власти и общества, отсутствия чувства государственности и патриотизма у так называемой общественности, у «бояр-западников».

Фредерик Лейн – авторитетный американский исследователь – посвятил свой труд истории Венеции с самого ее основания в VI веке. Это рассказ о взлете и падении одной из первых европейских империй – уникальной в своем роде благодаря особому местоположению. Мореплавание, морские войны, государственное устройство, торговля, финансы, экономика, религия, искусство и ремесла – вот неполный перечень тем, которые рассматривает автор, представляя читателю образ блистательной Венецианской республики. Его также интересует повседневная жизнь венецианцев, политика, демография и многое другое, включая мифы, легенды и народные предания, которые чрезвычайно оживляют сухой перечень фактов и дат.

Мистикой и тайной окутаны любые истории, связанные с эсэсовскими замками. А отсутствие достоверной информации порождало и порождает самые фантастические версии и предположения. Полагают, например, что таких замков было множество. На самом деле только два замковых строения имели для СС ритуальный характер: собор Кведлинбурга и замок Вевельсбург. После войны молва стала наделять Вевельсбург дурной славой места, где происходят таинственные и даже жуткие истории. Он превратился в место паломничества правых эзотериков, которые надеялись найти здесь «центр силы», дарующий если не власть, то хотя бы исключительные таланты и способности.На чем основаны эти слухи и что за ними стоит — читайте в книге признанного специалиста по Третьему рейху Андрея Васильченко.

В своей новой книге «Преступления без наказания» Анатолий Терещенко вместе с человеком, умудренным опытом – Умником, анализирует и разбирает некоторые нежелательные и опасные явления для России, которая в XX веке претерпела страшные военно-политические и социально-экономические грозы, связанные с войнами, революциями, а также развал Советского Союза и последовавшие затем негативные моменты, влияющие на российское общество: это глубокая коррупция и масштабное воровство, обман и пустые обещания чиновников, некомпетентность и опасное кумовство.