Художник в ушедшей России - [23]
Таким был Париж наших родителей, нашей первой молодости, Париж семейных альбомов, выцветших фотографий, модных журналов и прелестных, столь редких теперь литографий в красках, когда улица ликовала и смеялась, и женщины в своих шляпах и нарядах были подобны птицам (ныне они превратились в "рыбу-угря", как остроумно выразилась одна газета), когда на Елисейских полях тянулась блестящая вереница сверкавших на солнце экипажей с гарцующими чудными кровными лошадьми, и был уютный, преисполненный богемной романтики Монмартр, не то Тулуз Лотрэка, не то оперы "La vie de Boheme". Всюду была разлита радость, смех и беззаботность.
И на всем искусстве в то время еще лежала особая печать. Как некий enfant terrible, врывались в него уже новые течения, вызывавшие презрение, подчас ужас. От них шарахалось всё общество, усматривая в них некое сатанинское наваждение. Такими они казались; и маститым художникам со значком Почетного Легиона в петлице и модными роскошными мастерскими, где позировали все именитые дамы, где заказывался "парижский портрет" богатыми иностранцами.
Большей частью эти портреты были весьма умелыми, грамотными, условным безукоризненным рисунком, академически строгим. Искусство весьма ограниченное, и в этих границах по-своему совершенное, если проникнуться вкусом, нередко сомнительным, и стилем эпохи. По аналогии к религиозной вере эта художественная вера может быть приравнена к религии тех, кто верят просто, не мудрствуя лукаво и опираясь на церковные догматы без оговорок и сомнений. Такую веру давала Академия с ее заветами. На этих догматах, на некоем символе веры и основано было всё тогдашнее искусство, в противоположность вольнодумцам, а то и "впрямь" безбожникам вне "церкви" и ее "заветов".
Догматы, на которых зиждилось это искусство, были ясны и просты: строгий рисунок, сходство в портрете, нередко доведенное до фотографичности, убедительность протокольного пейзажа или особая задача цвета, неживого, а декоративного ("фонарного", а не рассеянного и вибрирующего, как у импрессионистов); жанр сцены из жизни (Берро, воспевший быт Парижа); тут всё "узнаешь", пытливо рассматриваешь, изучаешь и многое прощаешь этим протоколам, ныне имеющим прелесть документов минувшего быта (лирическое чувство было почти всегда чуждо французскому искусству, за исключением Коро, Миллэ и, быть может, некоторых других, равно как и фантастика, кроме Дорэ и Морро).
Портрет женский должен был быть приятным, нарядным; он должен был увековечить красавицу, а если дама была не очень красива, то ее прикрашивали.
Воспетым и протокольно переданным, как воспоминание, должен был быть и туалет, не просто красивый предмет живописи, а именно точно то платье, которое заказывалось и выбиралось для портрета. Также внимательно выписывались аксессуары, веер, нарядное кресло и драгоценности.
Напрасно ныне не видят в этом смысла и оправдания, и в презрительном отношении к этой честности находят оправдание для своей поспешной небрежности, или просто отсутствия мастерства, умения и добросовестности. В пределах своей веры французские живописцы были просты, и в вере они были сильны.
Менее талантливые были все же сильны в рисунке, что внушало уважение к великим французским традициям, но скучны и неприятны по живописи (Боннар). Более крупные вносили свой темперамент, яркие таланты являли чудеса виртуозности (итальянец-парижанин Больдини, ранней эпохи, несколько дешево шикарный в последней). Делакруа, Шассерио и прочие великие имена после немцев нас порадовали своей живописной палитрой. Рад я был увидать мастерские портреты Лакур, мне близкого и даже "родного", так как он написал портреты моей бабушки и деда Щербатовых, в бытность их в Париже (куда они в дормезе приехали из Московской губернии, проехав всю Германию, Австрию, Италию и так же проследовали дальше в Англию и Ирландию - свадебное путешествие на лошадях) и моих теток княгини Голицыной и княгини Васильчиковой, сестер моего отца. Он был серьезным портретистом, чувствовавшим аристократизм модели, шарм лица и, при всей приятности, не впадавший в слащавость и лишенный сухости знаменитого Энгра, виртуоза рисунка, каких мало.
Целая эпоха жизни и творчества Франции, недавней и уже законченной, ставшей историей, - прошла перед моими глазами.
Очень тревожит теперешних критиков вопрос, был ли в то время "стиль", или его не было. "Конечно, он был!" - восклицают некоторые. В этом я сильно сомневаюсь. Стиля-то именно и не было, но был свой вкус, le gout du temps, что составляет большую разницу и, конечно, в общем безвкусица, хотя и "трогательная", ибо прошлое всегда покрывается как бы амнистией, к нему относятся умиленно, всепрощающе, но все же безвкусица, подчас забавная, занятная, в прикладном искусстве нередко чудовищно-оскорбительная (зал, специально посвященный теперь музею прикладного искусства при Лувре, это ярко выявляет).
В молодости моей, вплоть до революционной эпохи, когда вкус ощущался в связи с культом старинных обстановок эпохи Екатерины II, Павла I и Александра I, прикладное искусство и у нас представляло собой конгломерат стилей или варианты стиля Луи-Филиппа. Пышная перегруженность, нагроможденность наблюдались повсеместно. В новых домах примешивалась пошлая стилизация, заимствованная из Парижа, мотивов из растительного мира и мира животных и насекомых, проникавшая со своими гнутыми линиями и орнаментами как в архитектуру, так и в обстановку, и в ювелирные изделия. Этой отравы не избег и талантливый знаменитый мастер-ювелир Лаллик.
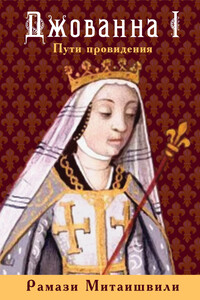
Повествование описывает жизнь Джованны I, которая в течение полувека поддерживала благосостояние и стабильность королевства Неаполя. Сие повествование является продуктом скрупулезного исследования документов, заметок, писем 13-15 веков, гарантирующих подлинность исторических событий и описываемых в них мельчайших подробностей, дабы имя мудрой королевы Неаполя вошло в историю так, как оно того и заслуживает. Книга является историко-приключенческим романом, но кроме описания захватывающих событий, присущих этому жанру, можно найти элементы философии, детектива, мистики, приправленные тонким юмором автора, оживляющим историческую аккуратность и расширяющим круг потенциальных читателей. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
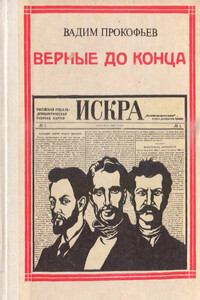
В этой книге рассказано о некоторых первых агентах «Искры», их жизни и деятельности до той поры, пока газетой руководил В. И. Ленин. После выхода № 52 «Искра» перестала быть ленинской, ею завладели меньшевики. Твердые искровцы-ленинцы сложили с себя полномочия агентов. Им стало не по пути с оппортунистической газетой. Они остались верными до конца идеям ленинской «Искры».

Рассказ о жизни и делах молодежи Русского Зарубежья в Европе в годы Второй мировой войны, а также накануне войны и после нее: личные воспоминания, подкрепленные множеством документальных ссылок. Книга интересна историкам молодежных движений, особенно русского скаутизма-разведчества и Народно-Трудового Союза, историкам Русского Зарубежья, историкам Второй мировой войны, а также широкому кругу читателей, желающих узнать, чем жила русская молодежь по другую сторону фронта войны 1941-1945 гг. Издано при участии Posev-Frankfurt/Main.
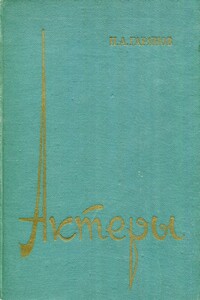
ОТ АВТОРА Мои дорогие читатели, особенно театральная молодежь! Эта книга о безымянных тружениках русской сцены, русского театра, о которых история не сохранила ни статей, ни исследований, ни мемуаров. А разве сражения выигрываются только генералами. Простые люди, скромные солдаты от театра, подготовили и осуществили величайший триумф русского театра. Нет, не напрасен был их труд, небесследно прошла их жизнь. Не должны быть забыты их образы, их имена. В темном царстве губернских и уездных городов дореволюционной России они несли народу свет правды, свет надежды.

В истории русской и мировой культуры есть период, длившийся более тридцати лет, который принято называть «эпохой Дягилева». Такого признания наш соотечественник удостоился за беззаветное служение искусству. Сергей Павлович Дягилев (1872–1929) был одним из самых ярких и влиятельных деятелей русского Серебряного века — редактором журнала «Мир Искусства», организатором многочисленных художественных выставок в России и Западной Европе, в том числе грандиозной Таврической выставки русских портретов в Санкт-Петербурге (1905) и Выставки русского искусства в Париже (1906), организатором Русских сезонов за границей и основателем легендарной труппы «Русские балеты».

Более тридцати лет Елена Макарова рассказывает об истории гетто Терезин и курирует международные выставки, посвященные этой теме. На ее счету четырехтомное историческое исследование «Крепость над бездной», а также роман «Фридл» о судьбе художницы и педагога Фридл Дикер-Брандейс (1898–1944). Документальный роман «Путеводитель потерянных» органично продолжает эту многолетнюю работу. Основываясь на диалогах с бывшими узниками гетто и лагерей смерти, Макарова создает широкое историческое полотно жизни людей, которым заново приходилось учиться любить, доверять людям, думать, работать.