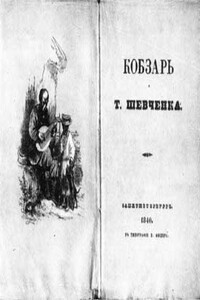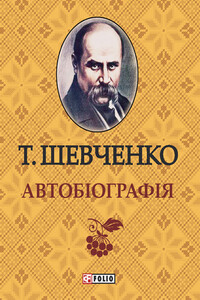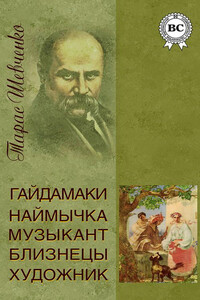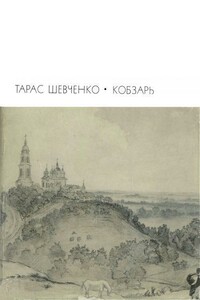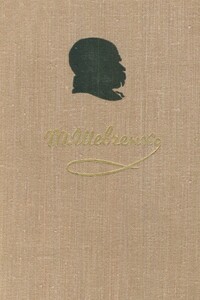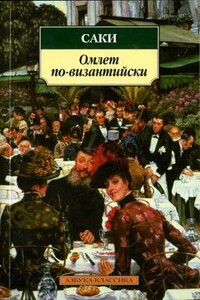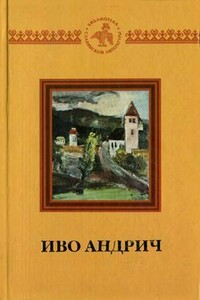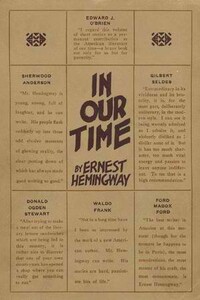– Не знаю, – сказал я и начал одеваться.
– Боже мой, Боже мой! Как бы мне на него хоть издали посмотреть. Знаете, – продолжал он, – я, когда иду по улице, все об нем думаю и смотрю на проходящих, ищу глазами его между ими. Портрет его, говорите, очень похож, что на «Последнем дне Помпеи»?
– Похож, а ты все-таки не узнал его, когда он был здесь. Ну, не горюй, если он до воскресенья не зайдет ко мне, то в воскресенье мы с тобой сделаем ему визит. А пока вот тебе билет к мадам Юргенс. Я сегодня дома не обедаю.
Сделавши такое распоряжение, я вышел.
В мастерской Брюллова я застал В. А. Жуковского и М. Ю. графа Вельегорского. Они любовались еще неоконченной картиной «Распятие Христа», писанной для лютеранской церкви Петра и Павла. Голова плачущей Марии Магдалины уже была окончена, и В. А. Жуковский, глядя на эту дивную плачущую красавицу, сам заплакал и, обнимая Карла Великого, целовал его, как бы созданную им красавицу.
Нередко случалось мне бывать в Эрмитаже вместе с Брюлловым. Это были блестящие лекции теории живописи. И каждый раз лекция заключалась Теньером и в особенности его «Казармой». Перед этой картиной надолго, бывало, он останавливался и после восторженного, сердечного панегирика знаменитому фламандцу говаривал:
– Для этой одной картины можно приехать из Америки.
То же самое можно теперь сказать про его «Распятие» и в особенности про голову рыдающей Марии Магдалины.
После объятий и поцелуев Жуковский вышел в другую комнату; Брюллов, увидевши меня, улыбнулся и пошел за Жуковским. Через полчаса они возвратились в мастерскую, и Брюллов, подойдя ко мне, сказал улыбаясь: «Фундамент есть». В это самое время дверь растворилась, и вошел Губер, уже не в путейском мундире, а в черном щегольском фраке. Едва успел он раскланяться, как подошел к нему Жуковский и, дружески пожимая ему руку, просил его прочитать последнюю сцену из «Фауста», и Губер прочитал. Впечатление было полное, и поэт был награжден искренним поцелуем поэта.
Вскоре Жуковский и граф Вельегорский вышли из мастерской, и Губер на просторе прочитал нам новорожденную «Терпсихору», после чего Брюллов сказал:
– Я решительно не еду смотреть «Хитану».
– Почему? – спросил Губер.
– Чтобы сохранить веру в твою «Терпсихору».
– Как так?
– Лучше веровать в прекрасный вымысел, нежели…
– Да ты хочешь сказать, – прервал его поэт, – что мое стихотворение выше божественной Тальони. Мизинца! ногтя на ее мизинце не стоит, Богом тебе божусь. Да, я чуть было не забыл: мы сегодня у Александра едим макароны и стофатто с лакрима-кристи. Там будет Нестор, Миша и cetera, cetera… И в заключение Пьяненко. Едем! – Брюллов взял шляпу. – Ах, да! Я и забыл… – продолжал Губер, вынимая из кармана билеты. – Вот тебе два билета. А после спектакля к Нестору на биржу (так в шутку назывались литературные вечера Н. Кукольника).
– Помню, – отвечал Брюллов и, надевая шляпу, подал мне билет.
– И вы с нами? – сказал Губер, обращаясь ко мне.
– И я с вами, – ответил я.
– Едем! – сказал Губер, и мы вышли на коридор. Лукьян, затворяя двери, проворчал:
– Вот тебе и ростбиф!
После макарон, стофатто и лакрима-кристи компания отправилась на биржу, а мы, т. е. я, Губер и Карл Великий, пошли в театр. В ожидании увертюры я любовался произведениями моего protégé. (Для всех орнаментов и арабезок, украшающих плафон Большого театра, рисунки были сделаны им по указаниям архитектора Кавоса. Это сообщил мне не сам он и не честолюбивый его хозяин, а машинист Карташов, который присутствовал постоянно при работах и по утрам рано угощал чаем моего протеже.) Я хотел было сказать Брюллову про арабезки своего ученика, но увертюра грянула. Все, в том числе и я, устремил [и] глаза на занавесь. Увертюра кончилась, занавесь вздрогнула и поднялась. Начался балет. До качучи все шло благополучно, публика держала себя, как и всякая благовоспитанная публика. С первым ударом кастаньет все вздрогнуло и затрепетало. Аплодисменты тихо, как раскаты грома вдали, пронеслись по зале, потом громче и громче, и – качуча кончена, – и гром разразился. Благовоспитанная публика, в том числе и я, грешный, взбеленилась, ревет, кто во что горазд: кто браво, кто da capo, а кто только стонет да ногами и руками работает. После первого припадка взглянул я на Карла Великого, а у него, бедного, пот катится – работает руками и ногами и что есть духу кричит: «Da capo!» Губер тоже. Я немного перевел дух, да и себе ну валять за учителем. Мало-помалу ураган начал стихать, и в десятый раз вызванная чаровница выпорхнула на сцену и после нескольких самых грациозных приседаний исчезла. Тогда Карл Великий встал, вытер пот с чела и, обращаясь к Губеру, сказал:
– Пойдем на сцену, познакомь меня с ней.
– Пойдем, – сказал Губер восторженно. И мы пошли за кулисы.
За кулисами уже роилася толпа поклонников, состоящая большею частию из почтенных лысин, очков и биноклей. Мы и себе пристроились к толпе. Не без труда просунулись мы в центр этой массы. И Боже, что мы там увидели! Порхающая, легкая, как зефир, очарователь-ница лежала в вольтеровских креслах с разинутым ртом и раздутыми, как у арабской лошади, ноздрями, а по лицу, как мутные ручьи весной, текут смешанные с потом белила и румяна.