Хроники постсоветской гуманитарной науки. Банные, Лотмановские, Гаспаровские и другие чтения - [29]
За время Банных чтений методологической невинности мы, возможно, не утратили, но это не помешало нам провести время с пользой и удовольствием. Неофициальная часть завершилась в полночь страшным ливнем и раскатами грома. Природа скорбела об окончании мероприятия.
Рефлексии и фиксации
ВТОРЫЕ БАННЫЕ ЧТЕНИЯ
«Дружба/вражда: из истории литературных отношений»
(27–28 июня 1994 года)[79]
Как и предсказывали проницательные наблюдатели, Вторые Банные чтения (организованные, как и первые, журналом «Новое литературное обозрение», но на сей раз при участии Российской библиотеки по искусству, бывшей библиотеки ВТО, в гостеприимных стенах которой участники и публика и провели два дня — 27 и 28 июня) оказались непохожи на первые. Тем, кто забыл, напомню, почему чтения именуются Банными: во-первых, в Банном переулке начинала свою деятельность редакция (теперь адрес ее, к огорчению бывших соседей, изменился), а во-вторых, приняв такое несерьезное название, редакция тем самым предложила докладчикам излагать свои идеи, не чуждаясь юмора, иронии, может быть, даже розыгрыша — но не вместо серьезных соображений, а вместе с ними. Этот «банный» дух в точно отмеренной пропорции чрезвычайно удачно осенил прошлогодние Первые чтения, на Вторых же был представлен довольно скупо[80]. Но разница, пожалуй, не только в этом. Первые чтения были замечательны тем, что обнажили некоторые изначальные противоречия, свойственные тому делу, которым занимаются докладчики — историки литературы. Вторые же чтения показали не столько затруднения целой науки, сколько частные трудности конкретных исследователей с постановкой и разрешением их собственных историко-литературных проблем. Возможно, если не все, то полдела здесь — в теме чтений. Первые чтения назывались «Парадоксы литературной репутации», и эта тема превосходно «организовала» докладчиков, не давая никому из них погрузиться в своих рассуждениях на такую глубину конкретики, которая, пожалуй, уже не внятна исследователю другой конкретики (другой эпохи, другой национальной литературы и проч.), — подход, при котором последующий докладчик с трудом может уяснить, что, собственно, тревожит предыдущего. «Литературные репутации» заранее постулировали подход к эмпирике литературной жизни как к чему-то не заслуживающему полного доверия, чему-то нуждающемуся в разгадке, провоцировали на исследование зазора между тем, «что было на самом деле», и тем, что осталось в истории литературы. Тема Вторых чтений формулировалась так: «Дружба/вражда: из истории литературных отношений» — и оказалось, что организующий потенциал этой формулы весьма скромен. Чрезвычайно интересная сама по себе (звучит прекрасно!), тема «дружбы/вражды» позволила докладчикам, оставаясь формально верными «повестке дня», толковать преимущественно о том, как поссорился такой-то с таким-то, а то даже и не поссорился, а просто жил, был и заимствовал у кого-то мотивы и метафоры. Проблема, важная для всех, терялась по дороге. И даже записные теоретики, вдруг сникнув, не предложили сформулировать наконец, что же такое литературная дружба или литературная вражда, и говорили, как и остальные, каждый про свое, сугубо конкретное. Слушать-то было интересно всех. Но — каждого в отдельности и постольку, поскольку его интересы совпадают с твоими собственными. Вместо торжества историко-литературного исследования (со всеми его несовершенствами) получилось торжество отдельных, ничем кроме места произнесения между собою не связанных докладов. Впрочем, никто еще не отменял основополагающего завета кирпича из анекдота: главное, чтобы человек был хороший. А люди, то есть докладчики, были все безусловно хорошие. О чем предоставляется судить читателю по изложению их докладов.
Чтобы избежать непременного в кратком пересказе чужих докладов лавирования между прискорбно однообразными глаголами: «докладчик показал — сказал — указал», «доклад назывался — носил название — был посвящен», — я попробую свернуть выслушанные доклады до состояния тезисов (коих, впрочем, никто от докладчиков не требовал) — в надежде на то, что это придаст пересказу необходимый динамизм.
Следуя в расположении этих «тезисов» хронологии событий, приходится, как это ни неприлично, начинать с себя (волею главного редактора «НЛО» Ирины Прохоровой автор этих строк был выдернут с уютного предпоследнего места в программе и поставлен на место самое что ни на есть первое, что не улучшило ни самочувствия докладчика, ни — боюсь — качества доклада).
Итак: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
1) Вера Мильчина. «Русофобия и русофилия — близнецы-братья»[81]. Скрытый под «банным» названием вполне традиционный историко-литературный сюжет: репутация России во французской прессе 1830‐х годов, вражда (если формулировать в рамках предложенной для чтений темы) не людей, но концепций. Концепции две: одна исходит из лагеря, условно говоря, демократического (республиканского или около того), другая — из легитимистского. Для республиканцев Россия — средоточие всех зол и постоянный источник опасности, по их мнению, она только и мечтает о том, как бы начать «крестовый поход» (выражение, чрезвычайно употребительное в республиканских газетах) против западной цивилизации; страх перед этим «крестовым походом» (как материальным, в виде «казацкого нашествия», так и моральным, в виде русской пропаганды) так велик, что заставляет искать русских шпионов даже в мирных философах-индологах, более чем далеких от русских дел. Для легитимистов, напротив, Россия — идеальная монархия, управляемая наилучшим образом и процветающая благодаря самоотверженной любви подданных к государю (легитимисты охотно ставят верноподданных русских в пример французам, променявшим законную, «правильную» монархию старшей ветви Бурбонов на «промышленную» монархию «узурпатора» Луи-Филиппа). Самое же любопытное, что обе эти сконструированные России, и республиканская «империя зла», и легитимистская «монархия без страха и упрека», были далеки от реального положения дел в России, которое создателей концепций интересовало очень мало; их ничуть не смущал ни тот факт, что Россия в 1830‐е годы остерегалась провоцировать на военный конфликт какую бы то ни было европейскую страну, ни то обстоятельство, что Николай I вовсе не жаловал приезжавших в Россию легитимистов и воздерживался от каких бы то ни было официальных контактов с ними. В XIX веке, как и в наши дни, и «русофилия», и «русофобия» остаются сугубо «умственными» конструктами, имеющими к реальности отношение самое отдаленное. До реальности ли, когда спор идет об идеалах?

Вера Аркадьевна Мильчина – ведущий научный сотрудник Института Высших гуманитарных исследований РГГУ и Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС, автор семи книг и трех сотен научных статей, переводчик и комментатор французских писателей первой половины XIX века. Одним словом, казалось бы, человек солидный. Однако в новой книге она отходит от привычного амплуа и вы ступает в неожиданном жанре, для которого придумала специальное название – мемуаразмы. Мемуаразмы – это не обстоятельный серьезный рассказ о собственной жизни от рождения до зрелости и/или старости.

Париж первой половины XIX века был и похож, и не похож на современную столицу Франции. С одной стороны, это был город роскошных магазинов и блестящих витрин, с оживленным движением городского транспорта и даже «пробками» на улицах. С другой стороны, здесь по мостовой лились потоки грязи, а во дворах содержали коров, свиней и домашнюю птицу. Книга историка русско-французских культурных связей Веры Мильчиной – это подробное и увлекательное описание самых разных сторон парижской жизни в позапрошлом столетии.

Историческое влияние Франции на Россию общеизвестно, однако к самим французам, как и к иностранцам в целом, в императорской России отношение было более чем настороженным. Николай I считал Францию источником «революционной заразы», а в пришедшем к власти в 1830 году короле Луи-Филиппе видел не «брата», а узурпатора. Книга Веры Мильчиной рассказывает о злоключениях французов, приезжавших в Россию в 1830-1840-х годах. Получение визы было сопряжено с большими трудностями, тайная полиция вела за ними неусыпный надзор и могла выслать любого «вредного» француза из страны на основании анонимного доноса.

«Имена парижских улиц» – путеводитель особого рода. Он рассказывает о словах – тех словах, которые выведены белым по синему на табличках, висящих на стенах парижских домов. В книге изложена история названий парижских улиц, площадей, мостов и набережных. За каждым названием – либо эпизод истории Франции, либо живописная деталь парижской повседневности, либо забытый пласт французского языка, а чаще всего и то, и другое, и третье сразу. Если перевести эти названия, выяснится, что в Париже есть улицы Капустного Листа и Каплуновая, Паромная и Печная, Кота-рыболова и Красивого Вида, причем вид этот открывался с холма, который образовался из многовекового мусора.
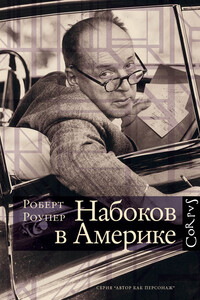
В книге подробно описан важный период жизни и творчества Владимира Набокова. В США он жил и работал с 1940 по 1958 год, преподавал в американских университетах, занимался энтомологией и, главное, стал писать по-английски. Именно здесь, после публикации романа “Лолита”, Набоков стал всемирно известным писателем. В книге приводится много документов, писем семьи Набоковых, отрывков из дневников, а также описывается жизнь в Соединенных Штатах в сороковые и пятидесятые годы и то, как она находила отражение в произведениях Владимира Набокова.

История экстраординарной жизни одного из самых любимых писателей в мире! В мире продано около 100 миллионов экземпляров переведенных на 37 языков романов Терри Пратчетта. Целый легион фанатов из года в год читает и перечитывает книги сэра Терри. Все знают Плоский мир, первый роман о котором вышел в далеком 1983 году. Но он не был первым романом Пратчетта и даже не был первым романом о мире-диске. Никто еще не рассматривал автора и его творчество на протяжении четырех десятилетий, не следил за возникновением идей и их дальнейшим воплощением.
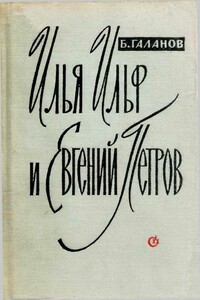
Эта книга — увлекательный рассказ о двух замечательных советских писателях-сатириках И. Ильфе и Е. Петрове, об их жизни и творческом пути, о произведениях, которые они написали совместно и порознь. Здесь анализируются известные романы «Двенадцать стульев», «Золотой теленок», книга путевых очерков «Одноэтажная Америка», фельетоны и рассказы. Используя материалы газет, журналов, воспоминаний современников, Б. Галанов рисует живые портреты Ильфа и Петрова, атмосферу редакций «Гудка», «Правды» и «Чудака», картины жизни и литературного быта 20—30-х годов. Автор вводит нас в творческую лабораторию Ильфа и Петрова, рассматривает приемы и средства комического, показывает, как постепенно оживал в их произведениях целый мир сатирических персонажей, созданных веселой фантазией писателей.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В основе книги - сборник воспоминаний о Исааке Бабеле. Живые свидетельства современников (Лев Славин, Константин Паустовский, Лев Никулин, Леонид Утесов и многие другие) позволяют полнее представить личность замечательного советского писателя, почувствовать его человеческое своеобразие, сложность и яркость его художественного мира. Предисловие Фазиля Искандера.
![Вводное слово : [О докторе филологических наук Михаиле Викторовиче Панове]](/build/oblozhka.dc6e36b8.jpg)
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Франция привыкла считать себя интеллектуальным центром мира, местом, где культивируются универсальные ценности разума. Сегодня это представление переживает кризис, и в разных странах появляется все больше публикаций, где исследуются границы, истоки и перспективы французской интеллектуальной культуры, ее место в многообразной мировой культуре мысли и словесного творчества. Настоящая книга составлена из работ такого рода, освещающих статус французского языка в культуре, международную судьбу так называемой «новой французской теории», связь интеллектуальной жизни с политикой, фигуру «интеллектуала» как проводника ценностей разума в повседневном общественном быту.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.