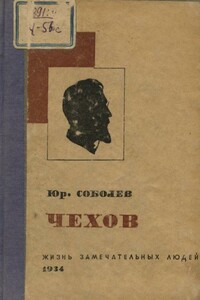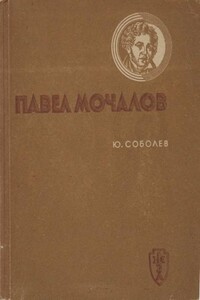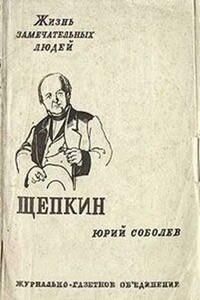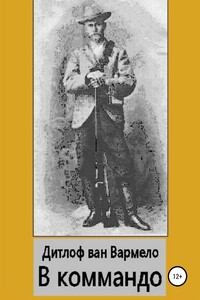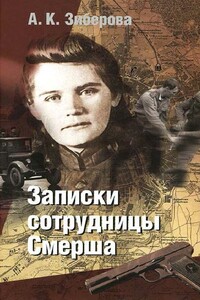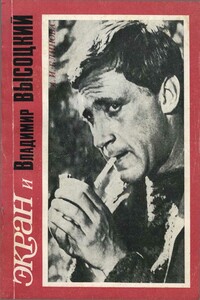на сцену Росслава, в которой этот последний, ударяя себя в грудь, беспрестанно повторяет:
на последнюю сцену трагедии «Синав и Трувор», в которой Синав, карикатура расинова Ореста, с четверть часа беснуется на сцене без всякой надобности:
Туман от глаз моих скрывает солнца свет.
и далее:
Но кто поверженный там очи к небу мещет?
Какой несчастливый в крови своей трепещет?
Едва, едва дыша, томится человек…
Но Трувор, брат мой то! Ах, он кончает век!
и пр. и пр. Но эти самые места и доказывают, что талант Дмитревского производил впечатление на зрителей большею частью в сценах неестественных, в ролях персонажей характеров уродливых, которые для исполнения их не требовали от актера ни чувства, ни увлечения. Для предков наших, видевших Дмитревского в этих ролях и не видавших ничего лучшего, он точно показаться мог чудом искусства; но это еще не доказательство, чтобы он в сущности был великим, самостоятельным актером, за какого хотят непременно нам его выдать; а еще менее, чтобы он был образователем Плавильщикова, Шушерина и особенно Яковлева, не имевшего с ним во всех отношениях ни малейшего сходства.
Учениками великого мастера могут почитаться только те, которые усвоили себе манеру своего учителя; так, например, великолепную актрису Жорж можно было назвать ученицею знаменитой актрисы Рокур, потому что она была живая Рокур, хотя и в совершеннейшем виде; живописец Боровиковский, несомненно, был учеником Лампи, потому что произведения Боровиковского нельзя почти отличить от произведений его учителя; точно так же кто, слышавший один раз Паганини, не признает в скрипачах Сивори и Контском учеников его? Но Яковлев не был не только учеником, но даже и подражателем Дмитревского, потому что, по своенравной натуре своей, он с самого вступления на сцену не хотел слушать Дмитревского.
«Хорошо или дурно я играть буду, о том пусть решает публика, а уж обезьяной никогда не буду».
Вот что говорил молодой купец Яковлев Дмитревскому при самом выступлении своем на сцену, кажется, в 1794 году. Дмитревской и Яковлев были совершенные антиподы в отношении к дарованиям, мыслям, чувствованиям и воззрению на искусство. Плавильщиков, Шушерин и впоследствии Яковлев вступили на петербургский театр в то время, когда Дмитревской, окончив в 1787 году сценическое свое поприще, оставался только режиссером придворного театра. Разумеется, эти молодые артисты более или менее были от него в зависимости, и вот почему вскоре укоренилось в обществе мнение, что он был их образователем.
Но если он может назваться настоящим образователем кого-нибудь из актеров, то скорее всего Лапина, который поступил на театр между 1778 и 1780 годами, играл вместе с Дмитревским, имел все его приемы, его дикцию, отличался в тех же ролях, в каких отличался и Дмитревской, например, в роли Тита в «Титовом милосердии», словом был живая с него копия со всеми его достоинствами и недостатками. Но Лапин вскоре (в 1784 или 1785 г.), по каким-то неудовольствиям с великим актером, отправился в Москву и поступил на театр Медокса, человека необыкновенно умного, знатока своего дела и отличного директора театра, который умел находить и ценить таланты. Лапин был высокий красивый мужчина с выразительною физиономиею, и современные театралы не иначе называли его, как русским Ларивом (проименование русского Лекена оставалось за Дмитревским).
На место Лапина принят был Плавильщиков, но и он как-то не ужился с своим режиссером и также уехал в Москву под крылышко Медокса, и тогда, наконец, благодаря Н. И. Перепечину, отыскавшему в какой-то лавчонке Гостиного двора молодого сидельца, декламировавшего трагедии, явился на сцене звездою первой величины Яковлев, который с самого почти появления своего затмил своих предшественников и заставил почти забыть самого Дмитревского.
Огромный успех Яковлева не совсем был по сердцу нашему Лекену, и это доказывается тем, что в 1797 году он не допустил его играть в «Димитрии Самозванце» (представленном при дворе) роль самого самозванца, но играл ее сам, хотя около десяти лет уже не был на сцене; а преклонные его лета, совершенно ослабевший орган и увеличившееся трясение головы вовсе не соответствовали самому характеру роли. Этот чрезвычайный успех нового актера как ни был несогласен с видами Дмитревского, однакож умный и осторожный старик, рассчитывая, что с расположением публики к молодому артисту шутить небезопасно, принялся ему покровительствовать из всех сил и своенравного двадцатитрехлетнего юношу провозгласил под рукою лучшим и любимейшим учеником своим, присовокупив, однакож, к тому, что он упрямец и большой неслух. До самой кончины своей Яковлев был за то признателен Дмитревскому и, несмотря на частые с ним размолвки, вследствие неумеренных возлияний Бахусу на веселых пирушках, сохранил к нему искреннюю любовь и уважение; в то время эту признательность проявил Яковлев в сочиненной им надписи к портрету Дмитревского, писанному знаменитым Лампи в костюме Олега, — надписи, которая по тогдашнему времени могла назваться недурною:
Се лик Дмитревского, любимца Мельпомены,